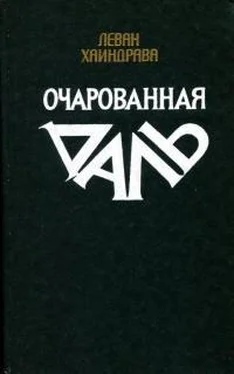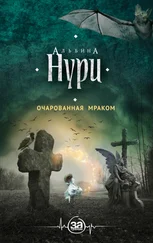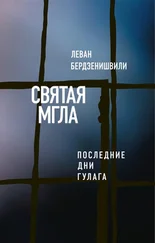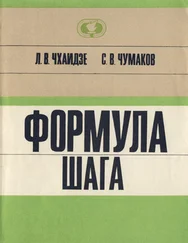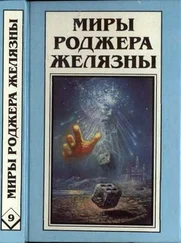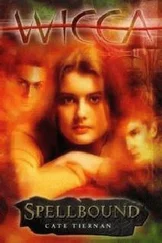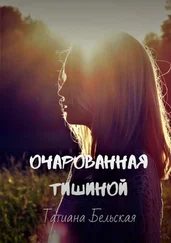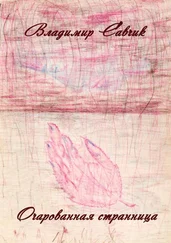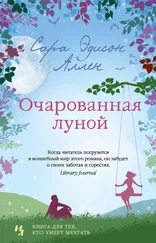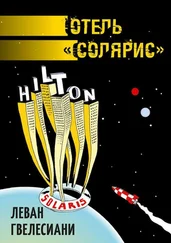— Но ведь у них линия Зигфрида?
Тодадзе улыбнулся. У него было редкое умение здраво оценивать свои возможности и при общении с Гогой, да и с Колей Джавахадзе он сознавал свою недостаточную осведомленность в литературе и даже в истории. Именно потому, хотя его порой тянуло провести с ними время за чашкой кофе, он обычно этого не делал: молодые люди заведут разговор на литературные темы, да еще не о классиках, которых Тодадзе все же знал неплохо, а о каких-то новых поэтах, и тогда сиди и хлопай ушами. А это всегда неприятно, да и скучно, тем более что у Тодадзе не было и другой дурной привычки, — отрицать то, чего не понимаешь, привычки, дающей более ограниченным людям какое-то подобие самоутешения.
Но в военных вопросах Тодадзе чувствовал себя гораздо компетентнее своих собеседников, и ему доставляло удовольствие объяснять им разные специфические детали, которые они не учитывали.
И потому он с удовольствием заговорил на хорошо знакомую тему:
— Что такое линия Зигфрида? Цепь укреплений, состоящая из бетонированных огневых точек, связанных ходами сообщения и прикрытых с фаса противотанковыми надолбами и проволочными заграждениями. На этой линии сидят люди. И чем они лучше вооружены, тем сильнее такая линия обороны.
— Вы забыли упомянуть о боевом духе, — с легкой улыбкой подсказал Джавахадзе.
— Ну, это само собой разумеется! — живо согласился Тодадзе. — Без духа — нет армии. Посади туда итальянцев — все равно разбегутся или лапки кверху подымут при первом же хорошем артобстреле.
Гога украдкой взглянул на Колю — как-то он воспримет подобный отзыв о народе, среди которого прожил более десяти лет и который любил. Но Джавахадзе, если и почувствовал себя задетым, ничем этого не выказал.
— Чехи, я полагаю, будут защищаться отчаянно, — продолжал Тодадзе. — У них граница тоже хорошо укреплена.
Гога решил наконец высказать то, что его тревожило:
— Как-то трудно представить себе, чтобы чехословацкая армия смогла успешно противостоять германской.
— Да, пожалуй, вы правы. Нет у них традиций, у командного состава нет боевого опыта. Если дело дойдет до войны, скорее всего они будут быстро разгромлены.
Тодадзе не замечал, что сам противоречит тому, что говорил вначале. Впрочем, у него это часто случалось.
— И все равно сопротивляться надо, — сказал твердо и даже не без жесткости Джавахадзе. — Армия для того и существует, чтобы, когда настанет час, стать грудью и, если обстоятельства так сложатся, — умереть. Только в таком случае ее существование оправдано.
Слушая эти слова, Гога вспомнил, что когда-то слышал-то же самое от своего отца. Ростома Горделава уже нет, но словно душа его пролетела сейчас над этим местом.
А Тодадзе задумался, и глаза его приняли то отрешенное выражение, которое бывает у человека, воскрешающего давнее, редко тревожимое, но надежно сохраняющееся в кладовых памяти прошлое.
— Нелегко это… — заговорил он наконец, — стоять насмерть. Или заведомо идти на смерть. Нелегко… Но уметь надо. Только та нация будет жить, чьи сыны обладают таким умением.
Голос Тодадзе звучал задумчиво. Чувствовалось, что он еще что-то имеет сказать. Потому Коля и Гога выжидательно молчали.
— Вот, помню я один случай, — продолжал Тодадзе, все смотря куда-то мимо и как бы поверх голов своих слушателей, — в пятнадцатом году это было, под Варшавой. Наступлением немцев руководил Макензен. Мы оборонялись из последних сил. Народу у нас хватало, а вот боеприпасов оставалось по две обоймы на винтовку. Я тогда штабс-капитаном был, ротой командовал. Залегли мы в ржаном поле, правда, уже скошенном. Позади река, железнодорожный мост, который нам надо во что бы то ни стало отстоять. Можно сказать — ключ позиции в масштабах дивизии. В течение двух дней немцы несколько раз поднимались в атаку, но безуспешно. Мы держимся. И вот, на третий день — это как раз когда у нас по две обоймы осталось, — двинулись они снова. Ну, сперва, как водится, провели они артподготовку, мы понесли потери. Правда, небольшие — хорошо окопались. У нас командир полка был в этом отношении большой дока, труда людей не жалел, зато жизни их жалел. А к немцам — разведка донесла — ночью пополнение прибыло. Гвардейский полк вюртембергской пехоты. Одна из лучших частей германской армии. И вот, кончилась артподготовка, — а окопы их в полуверсте от наших, не больше, — видим: поднялись и пошли. Подошли поближе — различаем: в полный рост идут, в ногу, четко равнение держат, шаг печатают, как на параде, только немцы так умеют ходить. Каски сверкают. Зрелище! Тогда у них еще каски с острым шишаком были. Да. А впереди офицер, такой молодой фендрик, я уж и в лицо его различаю: тонкий прямой нос, щегольские усики и высокомерная улыбочка. На руках лайковые, лимонного цвета перчатки. Легким кавалерийским стеком помахивает, в зубах — дымящаяся папироса. Ну, словно у себя в Берлине по Унтер ден Линден прогуливается. Я передаю по линии: «Без моей команды — не стрелять!», а у самого мурашки по коже забегали: психическая атака! Страшная это штука, скажу я вам. Не выдержат нервы — пропал! А тот офицерик со стеком идет себе, спокойно этак, да еще, озираясь, проверяет — правильно ли строй держат, и покрикивает: «Ein, zwei! Ein, zwei!» [65] «Раз, два! Раз, два!» (нем.)
— как на ученье. Вот это его «Ein, zwei!» едва меня не сломило. Чувствую, холодный пот на лбу выступил. Повернул голову, смотрю на солдат, как-то они это терпят? Вижу, лица у всех бледные, напряженные. Каждый — словно до предела натянутая струна. Чуть подтяни еще — лопнет. А те уже совсем близко. Ну, думаю, пора. Снял фуражку, перекрестился и командую: «Ну, ребята, за веру, царя и отечество! Залпом… Пли!» Первым офицер упал, и вообще многих скосило. Но офицер тут же поднялся — прямо наваждение какое-то! — что-то скомандовал, они ряды сомкнули и все тем же шагом идут на нас, как ни в чем не бывало.
Читать дальше