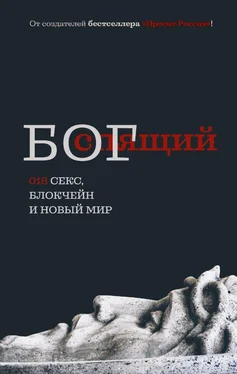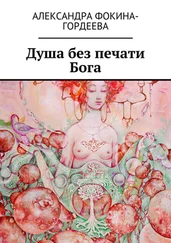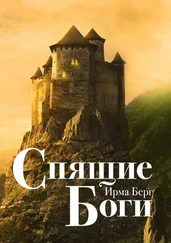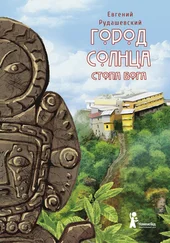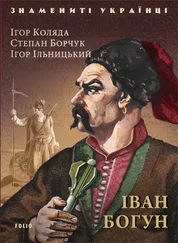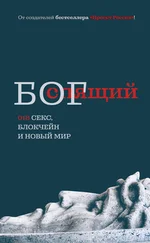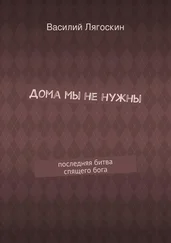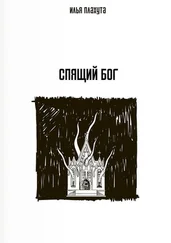Следуя логике Эйнштейна, видимую нами в данный миг картинку (наш мир) можно назвать одним кадром кинопленки, а совокупность всех еще не долетевших до нас фотонов можно назвать кинопленкой. Один кадр пленки — образуемая фотонами одна волна, один миг. Кадры-миги последовательно летят на нас порциями-квантами, как волны у Планка. Накатывая один за другим, они образуют картинку, называемую реальностью.
Если наблюдатель будет убегать от волн со скоростью света, фотоны до него не будут успевать доходить. Так как картинку, которую мы называем реальностью и которую видим, создают фотоны, наблюдатель, движущийся быстрее фотонов, ничего не увидит.
Из этого Эйнштейн выдвинул гипотезу, что скорость света — это фундаментальное свойство нашего бытия. Ничто в мире не может двигаться быстрее. Это была его прорывная идея-озарение. Все остальные идеи были до Эйнштейна.
Например, основные положения этой теории Пуанкаре изложил еще за год до публикации Эйнштейна. Но, опасаясь за свой имидж, не решился заявить их новым взглядом. Он представил их научному сообществу как умозрительную абстракцию, фокус и игру ума, в ключе типа — не подумайте, что я это серьезно. Это я так, вообще…
Такая ситуация наблюдается у всех, кто выдвигал гениальные идеи. Они настолько выходили за рамки привычного, что сами первооткрыватели не могли в них поверить. Они или выбирают молчание, как это сделал Гаусс, когда пришел к идее неевклидовой геометрии, или говорят с кучей оговорок, типа, не примите несусветную чушь за мое мнение. Я на это как на абстракцию смотрю, как в высшей математике на летающих крокодилов. Коперник видел в гелиоцентрической теории математическую абстракцию, так как мысли не мог допустить, что его разум и глаза могут видеть истину против Библии. Планк говорил о квантовой (порционной) природе всякого волнового излучения не как о реальности, а как о допустимой фантазии. Минковский говорил о расширяющейся Вселенной в том же духе, типа, не подумайте, что я сошел с ума. Я это просто в виде фантазии говорю. Пуанкаре высказывал мысли, впоследствии изложенные Эйнштейном, тоже как шутку и фокус для развлечения, типа вот до чего можно прийти в своих умозаключениях. Поэтому всем надо придерживаться здравого смысла и согласовывать свои идеи с реальностью. Иначе можно так далеко зайти, что все берега из виду потерять.
Будущее всегда неприлично. Причем, настолько неприлично, что приличные люди не могут позволить себе говорить о нем как о реальности. Ну, действительно, как до эпохи Просвещения можно было предположить, что Солнце крутится вокруг Земли. Бред же…
У молодого Эйнштейна не было имиджа. Его вообще никто не знал, и потому терять ему было нечего, кроме своей безвестности. Он заявил новую теорию отражением реальности, а не отвлеченной от реальности абстракцией, как это делал Пуанкаре.
Вне всяких сомнений, озарение ученого о природе наблюдения, о связи видимого мира со скоростью света — это насколько гениально, настолько и очевидно. Взяв за точку отсчета скорость света как предел, он на этом фундаменте собрал разрозненные по научному сообществу идеи и соединил их как пазлы в целостную картину. Далее оформил все это в язык математики, и в мир пришла знаменитая теория относительности — сначала специальная, потом общая. С этого момента перевернулся взгляд на реальность.
Сейчас по научному сообществу так же разбросана, например, информация, которой достаточно для излечения рака. Но ее некому собрать. Нужен Эйнштейн, которого осенит центральная идея, и он на ее основании соберет фрагменты в единую картинку.
Сам Эйнштейн не видел в своей теории ничего заумного. Он писал некому Уилсу: «Этот вопрос не имеет никакого отношения к поверхностным суждениям, что "все относительно"... это, между прочим, не философская теория, а чисто физическая». В том же письме на упреки, что его теория слишком сложна для понимания, он продолжает: «Чушь о том, что моя теория чрезвычайно сложна для понимания, есть полнейшая бессмыслица, распространяемая поверхностными журналистами».
Идея Эйнштейна не была осмыслена в философском смысле ни самим Эйнштейном, ни его последователями точно так же, как, например, идея Планка о квантовой природе излучения не осмыслил в аспекте философии ни сам Планк, ни последующие ученые.
В этих идеях ученые увидели способ объехать яму на пути. Как только объехали, поехали дальше. Куда дальше — такого вопроса перед наукой никогда не стояло. Дальше — просто развиваться, расширять область знания и увеличивать границу незнания. А куда, зачем, чего в итоге хотим достигнуть — этого никогда не было. Научное знание в этом плане было не как летящая вперед стрела, а как увеличивающееся в своих размерах пятно.
Читать дальше