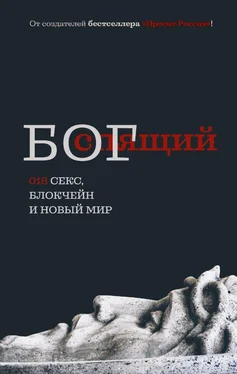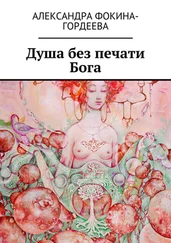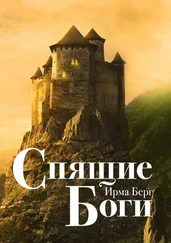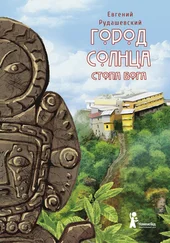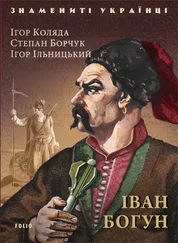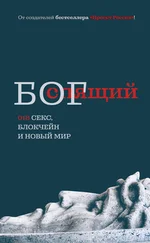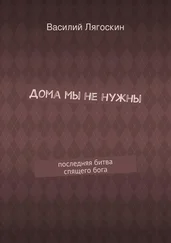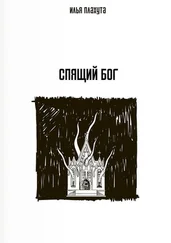Человек выводит свои цели из трех источников: а) мировоззрение; б) природа; в) среда. Цели животного выводятся из двух источников: природа и среда. Гуманизм отринул религиозное мировоззрение и не дал иного. У человека осталось два источника (как у животного): природа и среда. Если оценивать человека по источнику и качеству целей, и если держать в голове, что человек — это у кого три источника целей, а животное — у кого два, новый человек — это животное. Поэтому эволюция тезиса «Человек человеку — Бог, не останавливается на «Человек человеку — человек». Фраза развивается (или деградирует, кому как удобнее понимать) в тезис «Животное животному — животное».
Внешне по Гоббсу это состояние status civilis. Но по факту это принципиально новое состояние. Это даже не совокупность дикарей —status naturalis. Сообщество умных людей, не объединенных мировоззренческой целью — это сообщество умных животных.
Понятия добра и зла часть выведены из религиозного взгляда на мир, частью из пещерных эпох. Тот факт, что их переименовали в общечеловеческие, не отменил срок годности этих ценностей. Этот срок своего рода таймер гуманизма. За это время светскому обществ нужно было обрести новое мировоззрение, вывести из него главную цель, какую можно было бы назвать смыслом жизни, на ее основе сформировать понятия добра и зла, нормы и табу. Если идейный вакуум не удавалось преодолеть, вопрос превращения реки в болото был вопросом времени, но не принципа.
Новое общество задыхается в идейном вакууме. Вопрос, сформулированный позже Достоевским: «Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, если нет у вас основы в первоначальной великой идеи нравственной?» {89} 89 Ф. Достоевский «Дневник писателя»
повис в воздухе.
Что может предложить безыдейный мир умершему человеку? Набор высокопарных слов, которые через день никто не вспомнит. Пусть не через день, а через тысячи лет, какая разница… Кто помнит, что говорились на похоронах Македонского? Все пустое… И, если так, намечается печальный сценарий. Нужен был новый взгляд на мир.
Социум, по инерции продолжающий брать за ориентир старые ценности, начинает подозревать, что крах Церкви и торжество науки не дату плодов, на которые рассчитывали. В 1749 году Дижонская академия объявила премию за лучшее сочинение на тему «Принесли ли науки и искусства пользу человечеству?» Бывший лакей, Руссо, написал работу, где утверждал, что расцвет науки влияет на общество отрицательно. Он объяснял негативное влияние науки ее неблагородным происхождением (родилась из ремесла).
Церковь утверждала, что человек по природе грешен, и спастись может только ее стараниями. Руссо перефразировал мысль Спинозы, что человек человеку бог, и теперь говорил, что «человек по натуре своей добр, и только общество делает его плохим».
В 1750 году он получил за это премию. На вопрос, из чего следует его утверждение про изначальную безгрешность человека, этот «мыслитель» отвечал: «Верить и не верить — это последние вещи в мире, которые зависят от меня».
Роднило его утверждение с церковным то, что оба предлагали веру. С той разницей, что Церковь заявляла источником своей информации Бога, а Руссо и легион гуманистов в качестве источника информации указывали себя. Нет ничего плохого в том, что информация исходит от человека. Плохо, когда ее предлагается принять на веру.
Теория Руссо об отвержении разума в пользу сердца является ничем иным, как перефразированной мыслью Тертуллиана «Верую, ибо абсурдно». Кьеркегор выразил ее в призыве совершить прыжок веры. Не касаясь достоинств и недостатков концепций, скажу только, что обществу на смену христианству нужно было не очередное учение, в которое предлагалось верить, а нечто более рациональное.
Философы настолько полностью провалили задачу, насколько это вообще возможно. Все их рассуждения — это рассуждения детей в песочнице о взрослой жизни. Там даже критиковать нечего, потому что не критикуется пустота.
Единственный, на кого была надежда, наука. Это был самый рациональный институт из всех имеющихся. Но она явно не справлялась с задачей — не ее масштаб и горизонт. Традиционно наука специализировалась на решении прикладных и текущих задачах — как мосты и здания строить, пушки и ружья делать, мореплавателей учить по звездам ходить и прочее. Что не имело практического применения, то было вне интереса науки.
Это потом, когда изучение самых, казалось бы, бесконечно далеких от практического применения сфер, начнет приносить практические результаты, например изучение атома даст атомную бомбу, появится понятие «фундаментальная науки». На изучение того, практическое применение чего неясно, начнут выделять деньги в надежде, что потом будет какая-то польза. Какая именно — непонятно, но, чтобы была надежда, нужно выделять. Кто не выделяет, тот отстает, и в итоге его побеждает тот, кто выделяет.
Читать дальше