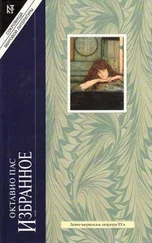– Ничегошеньки.
– Уедем мы или не уедем, – сказала Катрин, – но если ты собираешься остаться, то должен вспомнить о нашей вере.
– Старая песня.
– Не говори так, это хула. Какой из тебя еврей? Ты француз. Как узнать, кто ты на самом деле? Как выжить евреям во Франции, да и где угодно, если они разрывают цепь, нерушимую уже пять тысяч лет.
– Кто разрывает цепь?
– Ты.
– Нет. Ты – следующее звено. Ты все делаешь как надо, а я уже вышел в тираж, так в чем беда?
– Недостаточно просто родиться евреем. Что ты сделал для того, чтобы традиция не умерла?
– Я сам не умер. Мне удалось выжить, да так хорошо удалось, что я даже смог работать, завести семью, любить жену и ребенка. Маленьким я все время был на грани. Я тогда чувствовал, что не заслуживаю жизни. И считаю большим достижением то, что я не умер, не покончил с собой, не стал еще более чокнутым, чем я есть сейчас. Как насчет этого? Сохранение жизни. По-моему, это чудо. Я горжусь, что вы с Давидом вернули веру и обряды в нашу семью, но это не по мне. Бог для меня слишком непосредствен, великолепен и труден поэтому.
Они молча воззрились на него. А потом Давид сказал Катрин:
– Может быть, твой отец один из ламедвавников? [51] Ламедвавник (тж. ламедвовник) – в еврейской мистической традиции тайный праведник (цадик), один из 36, присутствующих на Земле в каждый момент. Название происходит от записи числа 36 в гематрии: буквами «ламед» и «вав». Согласно традиции, только их существование духовно оправдывает перед Богом существование нашего мира, их всегда 36, и если их станет хотя бы на одного меньше – грехи остального человечества перевесят и приведут наш мир к концу.
Сказано было с иронией, но лишь отчасти.
– А это кто такие? – поинтересовался Жюль.
– Да не важно, – ответил Давид. – Если вы из них, то не должны об этом знать. Вернее, вам нельзя это знать.
– Так зачем же ты говоришь?
– Просто пытался объяснить Катрин, что с вами все в порядке, нам далеко до вашего умения быть евреем, рядом с вами мы дилетанты.
Давид был мудр не по годам. И добр.
* * *
Хотя интуитивные идеи Жюля иногда выглядели как блестящие теоретические озарения, на самом деле он был далек от теоретизирования, будь то музыка или что-то еще. Способность любить нечто абстрактное вспыхнула в нем однажды и навсегда определила всю его дальнейшую жизнь. Это даже к лучшему, считал он, потому что вещи, которыми он дорожил, – великие и нетленные – были таинственным образом самоочевидны и все-таки не поддавались объяснению. Он был верен тайной силе, той, что осеняла благословением невзрачность и старомодность, неудачи и забвение. Там, где теоретики прозревали в музыке математические связи – иногда излагая довольно прозрачно, а порой до глупости усложняя, – он видел лишь волны и свет. Когда звук находил и воссоединялся с этими невидимыми и вездесущими волнами, он становился музыкой. Изображения высокого разрешения, видимые в мощные телескопы, являли волшебство цвета и божественный свет, который невооруженному глазу казался немыслимо далеким белым пятнышком. Но для них это было нечто гораздо большее, чем точечные вспышки, и в розовых облаках сверкающих галактик музыка наполняла то, что считалось молчанием.
Так, во всяком случае, он думал, чувствовал и иногда видел, хотя и не мог ни воспроизвести, ни, конечно же, доказать это. Вот и теперь, дожидаясь Франсуа в садах дворца Шайо, он видел то же самое в изломах фонтанных струй, рассыпающихся водяной пылью под налетевшим ветром. Сотни миллионов сверкающих на солнце капелек двигались синхронно, словно косяки рыб или стайки птиц, внезапно взлетали до наивысшей точки, а затем обрушивались, взрываясь серебром и золотом, в голубые глубины. Жюль прочитывал их, в них слышалась музыка, не что иное, как «Ma di…» из «Нормы» [52] «Норма» – опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801–1835).
, которая, подобно кораблю, мчалась на всех парусах, взлетала и падала вместе с морской волной. Жюль никогда не пытался объяснить музыку с точки зрения ремесла, углубляясь в составляющие ее. Он считал музыку живым существом, полагая, что она обладает прихотливым характером и что, подобно духу или потоку, она догадается, где расставлены ловушки объяснений, и искусно избежит их, исчезнув. У нее, как у электронов, аллергия на измерение.
Франсуа спускался по лестнице, размахивая пластиковым пакетом в правой руке. Этот день обещал быть последним теплым днем до самой весны, поэтому они решили обедать в садах, несмотря на толпы народа, которые будто собрались инсценировать взятие Бастилии. Это и к лучшему, решил Франсуа, в толпе легче затеряться, к тому же он знал одну кафешку неподалеку от авеню Клебер, где готовят лучшие в Париже бутерброды. Жюль и Франсуа всю жизнь обедали вот так, на воздухе, – тунец или ветчина на хрустящем багете, пиво, сидя на скамейке, в парке, на террасе или у реки. К реке было не подойти – кладка обрывалась у самой воды, либо путь преграждала живая изгородь. Скамейки были все заняты, на ступеньках слишком людно, так что они решили взобраться на парапет позади скамеек, куда брызги не долетали даже в самый ветреный день. На ту часть стены, что пониже, поближе к Сене и Эйфелевой башне, добраться не составляло труда, так что народ и ее занял. И только самая высокая часть парапета, гораздо выше самого высокого человека в мире, оказалась незанятой. Друзья выбрали пустую секцию посредине, куда они взбирались во времена своей юности – подпрыгнув, поворачивались в воздухе и надежно усаживались на парапет. Теперь они были слишком стары, слишком окостенели, чтобы прыгать, но все-таки влезли на стену, карабкаясь по железным болтам, повсюду торчавшим из стены.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу