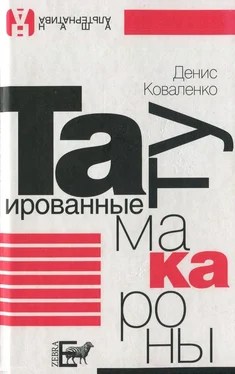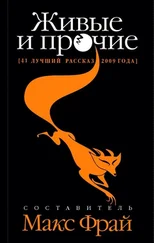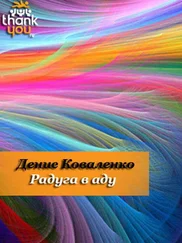Улочка была небольшая и, можно сказать, пустынная. Дома все старые, кирпичные, четырехэтажные, с карнизами, с полукруглыми окнами, и, как выродок-переросток, торчала между ними панельная девятиэтажная, одноподъездная образина — ни дать ни взять гадкий утенок. Осмотрев его снизу вверх, Ваня заключил:
— Вот урод, — но почему-то подошел к нему и сел на лавочку возле подъезда.
Просидел он так не больше двух-трех минут, как вдруг к подъезду подъехало такси, и из него вышел Никаныч.
Удивление обоих было столь велико, что и Никаныч, и Ваня с минуту молча смотрели друг на друга; первым опомнился Никаныч.
— Ванечка, ты? А откуда ты знаешь, где я живу… — спросил он и замолчал; вопрос показался ему глупым, он смутился, и, не найдя ничего лучше, подошел и сел рядом.
— Я и не знал, что вы здесь живете, — тоже смутившись и, точно извиняясь, произнес Ваня. — Вы меня извините, я, вообще-то, и не хотел… я это так… — Ваня поднялся.
Никаныч удержал его за руку:
— Постой, Ваня, не уходи, я глупость спросил… Видишь — мы снова встретились — судьба.
С минуту оба сидели молча.
— Я пойду. — Вновь Ваня поднялся, и вновь Никаныч удержал его:
— Не уходи, Ваня… В такие минуты Людовик XIII обычно говорил кардиналу Ришелье: «Кардинал, мне грустно, давайте погрустим вместе»… Пойдем, Ваня, ко мне поднимемся, посидим, чаю попьем. У меня был сегодня ужасный день… Я ведь говорил о тебе с Мариной Ивановной. И Марина Ивановна разговаривала с Быковым и Абрамовым. Можешь ничего не бояться. Теперь они будут тебя бояться. Дело приняло такой оборот, что ими теперь, может быть, заинтересуется милиция. Так что, Ваня, все хорошо… — закончил Никаныч совсем невесело.
Ваню весть эта никак не тронула, он будто и не услышал ее, внимательно посмотрев на Никаныча, он заговорил:
— Судьба значит… Николай Иванович, я очень много передумал за это утро… Когда я сейчас вас увидел, я испугался. Я подумал, что я сошел с ума… Так не бывает… Мне кажется, вы преследуете меня, даже во сне… Я вас никогда не боялся, а сейчас я вас начинаю бояться…
— Ваня, что ты говоришь!..
— Последнее время я всего боюсь, — перебил его Ваня, даже с каким-то ожесточением в голосе. — Боюсь смерти, боюсь жизни, боюсь за себя, боюсь за других. Как страшно стало жить; не знаю, говорят, что раньше жить было проще и легче; не знаю, я не видел той жизни. Может, и вправду она была лучше… Сейчас же никто ничего не боится. Уверен, что и Макс, и Абрамчик, и Муся не боятся ни вас, ни директора… Макс, он вообще ничего не боится, а Муся, я думаю, тот и убить может. И не знаю, почему они вас еще до сих пор не тронули. Они могут. Сейчас все можно… Ведь не поймают же тех, кто вчера у интерната — я про убийц говорю — не будет их никто искать… Моего отца, когда убили…
— У тебя убили отца? — испуганно прошептал Никаныч.
— Зарезали. Этим летом будет десять лет… Никто убийц его не искал, хотя все знали, за что его зарезали, и даже знали, кто мог зарезать… Я помню, когда милиция к нам приходила и убеждала мать, что это несчастный случай, что это он сам… А в прошлом году из соседнего с нашим подъезда мужика избили до реанимации, ограбили, прямо перед Новым Годом, а потом соседи говорили, да и сам он рассказывал, что в больницу к нему на следующий день милиционер пришел и уговаривал его подписать заявление, что никто его не бил и не грабил, а что это несчастный случай, и говорил: «Ведь все равно никого не найдем, кого искать-то, лиц вы не помните, пьяный были…». Никому человек не нужен, никому не интересен… режь, стреляй, грабь — никто и слова не скажет… И вас бы я убил, как они мне говорили, и никто бы меня не стал бы искать, а нашли бы, никто бы не осудил, потому что знают, кто вы…
Никаныч побледнел, и вырвалось у него:
— А что, Ваня, правда, знают, кто я… знают?
— Знают, конечно.
— И учителя знают?
— Конечно, знают.
Никаныч замолчал, поникший, сидел он на лавочке.
— Все-таки, знают, — чуть слышно вымолвил он.
Ваня, исподлобья посмотрев на бледного потерявшегося Никаныча, продолжил:
— Мне сегодня ночью приснился сон… сон, о котором и рассказывать, может, не стоит, но я расскажу… Я слышал где-то, а может и читал, не помню, что сон есть перерабатывание нашей будничной действительности, и, что, если мне снится что-нибудь гадкое, противное и страшное, то это хорошо; значит, мой мозг переработал мою дневную боль, страх: я испугался во сне, и тем самым очистился, и, что если бы этот сон не приснился, тогда я сошел бы с ума — мозг бы не выдержал тех мыслей, которые преследовали меня днем… Не знаю, правда ли это, но думаю, от таких ужасных снов сойти с ума можно гораздо вернее, чем от дневных страхов. Ведь во сне страх гораздо гуще и насыщеннее… Может, я сейчас и говорю не то… — Ваня на время замолчал. Собравшись с мыслями, он продолжил: — Это был очень страшный сон, и очень яркий. Я хорошо его помню. Тем более, что этот сон касается только меня и вас. В нем больше никого не было… Вам это интересно? — Ваня посмотрел на Никаныча. Тот курил и, казалось, совсем не слушает сейчас Ваню, а думает о чем-то своем.
Читать дальше