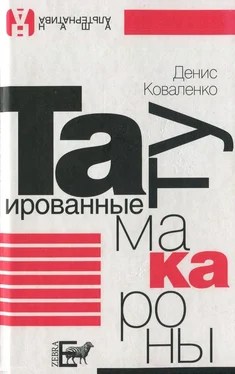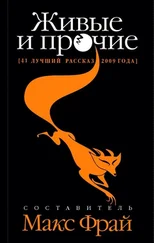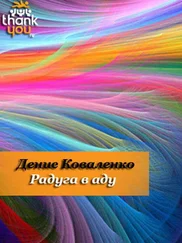— Вот видите, Зиночка, — расплывшись в улыбке, вставил Никаныч.
— Как, а мне Миша сказал…
— Твой Миша, дурак, — безапелляционно заявила Руслана Семеновна.
— Он совсем не мой, он ваш, — поспешила откреститься Зиночка.
— Вот именно. Если бы он не был племянником… моего мужа, черта с два он бы здесь работал, пень квадратноголовый. Его на работу устроили, а он ученика лучшего клеймит. Гнать таких педагогов в шею. — Руслана Семеновна, скрипя, уселась на диване, голос ее ожил, и теперь говорила она гневно и даже руками взмахивала: — Балбес. Я ради него старалась, чтоб его в армию не забрали, на работу его устроила, в городе, а ни в какой-нибудь там Казинке; а он вон, что здесь творит. Сегодня же буду с Мариной Ивановной говорить о его профнепригодности.
Что докторша, что Зиночка терпеливо помалкивали, прекрасно понимая, что причина таких слов в адрес Миши, есть ни кто иной, как его дядя и Русланы Семеновны муж; а на самом деле Руслана Семеновна души в своем племяннике не чает. Это знали и потому не возражали, давая Руслане Семеновне выговориться и успокоиться.
— Ваня Мамкин меня довел! Это ж надо такое удумать! Милейший, умнейший мальчик. Математику любит, пятерки получает, — Руслана Семеновна негодовала, — А вот то, что класс у вас, Николай Иванович, разболтанный, это верно. Совсем дикий класс. И меры вам, Николай Иванович, просто необходимо принять…
— Я уже принял, Руслана Семеновна, — заверил ее Никаныч. — Будьте спокойны. Трое самых отъявленных негодяев из моего 9 «А» понесут достойное наказание… Ведь я сам пострадал. У меня сегодня украли туфли. Вскрыли мой шкафчик и украли туфли.
— Какой ужас! — воскликнула Зиночка. — Их нашли!?
— Пока еще нет… Но, думаю, что скоро да.
Прозвенел звонок с урока.
— Мне пора; подробности расскажу вам позже. — Поднявшись, Никаныч, красиво ступая, удалился из учительской.
Покинув вместе с Юдиным приемную директора, Никаныч испытывал некоторые сомнения, а именно: правильно ли он поступил, что показал и оставил Марине Ивановне записку, найденную утром в своем шкафчике. Слишком история получалась щекотливая. Совсем Никанычу не хотелось давать в школе еще один повод для пересудов. А поводы, как ему казалось, так и лезли друг на друга. Другой бы на его месте плюнул, и горя не знал. Времена теперь другие, и сколько его знакомых, ничуть не стесняясь своей ориентации, работали в школах, институтах, и нормально работали, и с работы их никто не гнал, и не преследовали их вовсе…
Но так оно иной раз и получается: чем больше скрываешься, пускаешь пыль в глаза, тем подозрительней для окружающих кажется эта скрытность, и, в первую очередь, подозрительней для того, кто скрывается.
Никаныч был очень мнительным человеком, и ему совсем не хотелось, чтобы о нем судачили. И записка, отданная Марине Ивановне, и слишком уж пламенные речи самого Никаныча, говорившего о сексуальном преследовании Быковым, Абрамовым и Юдиным Вани Мамкина, — все это Никаныч делал и говорил, исключительно, чтобы прикрыть себя, лишний раз подстраховаться, показать всем, еще раз, какой он ярый ненавистник всей этой мерзости . Пока Никаныч шел вместе с Юдиным до класса, он совсем растревожился: «А что, если Марина Ивановна поймет все как раз правильно; а вдруг, рассказав ей все это, я собственным языком и выдал себя». Никаныч всего этого очень боялся сейчас. «Ведь если все откроется, что же делать тогда. Как я тогда буду выглядеть в глазах своих коллег? И неизвестно, что еще Абрамов с перепугу наговорит; а Юдин — этот вовсе неизвестно чего сказать может. А вдруг правду скажут: дескать, да, заказали мы Никаныча, и заказали не иначе, потому что Никаныч гомосексуалист». Смерть Никанычу не так страшна казалась сейчас, как правда о его наклонности. «А Марина Ивановна обязательно обратит внимание на слова их, как пить дать, обратит… да и сам я про это брякнул… кто за язык тянул… И что тогда делать? По школе слухи пойдут… Нет, все-таки зря все это, зря», — разволновался Никаныч, чрезмерно разволновался. Уже пожалел обо всем: «И куда полез. Шло бы, как и шло».
Когда он открывал дверь класса, его посетила, как ему показалась, гениальная мысль: «Надо жениться! И тогда уж точно обо мне и подумать никто ничего не посмеет. И повод для волнения сразу же отпадет. И тогда кто угодно, что угодно… да хоть обговоритесь! — я женатый человек». В класс Никаныч зашел совсем оживший. И, во время объяснения классу закона Менделя, мысли его полностью были заняты планом женитьбы.
Читать дальше