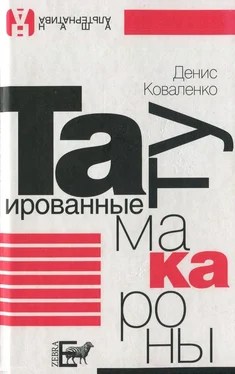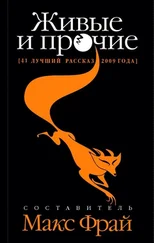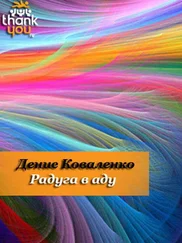Ему представился суд. Он, Александр Черкасов, в наручниках, стоит в клетке, охраняемой вооруженными милиционерами. За длинным черным столом сидят судьи. В зале, битком набитом, зрители, журналисты, все телевизионные каналы. Ему зачитали приговор (он отказался от адвоката, он согласен с приговором, он не собирается защищаться и оправдываться), его обвинили и приговорили к пожизненному заключению. Нет! — к смертной казни. И вот, ему предоставили последнее слово. В зале тишина. Мертвая тишина. Все видеокамеры направлены на него. Он выдержал паузу. Нет, он нисколько не испугался приговора, его лицо спокойно и торжественно — он знает, за что идет на смерть. Он находит взглядом мать. Она тихо плачет. «Не плачь, мама», — говорит он ей негромко. Потом он смотрит на судьей. Смотрит открыто, смотрит не боясь, и судьи отводят глаза, они не могут вынести этот прямой и сильный взгляд.
— Вы думаете, все то, что я совершил, бессмысленно? — говорит он спокойно и вкрадчиво. — Вы ошибаетесь. В этом мире нет ничего бессмысленного и нет ничего случайного, — он выдержал паузу. В зале ни звука. Все, замерев, ждут, что он скажет дальше. Вы думаете, что я преступник, — произносит он, взглядом ища глаза главного судьи, — вы ошибаетесь. Я всего лишь сын своего времени и своей страны. А какое время, таков и сын. Мы живем в раненой стране, где время замерло в болезненном ожидании — что будет дальше — выживем ли. Выживем — говорю я вам. Мы — выживем. Мы, подранки, злые и беспощадные. И нас много. Вы думаете, что, убив меня, вы обезопасите себя? Нет. Я уже чую запах крови. Запах новой крови — новой идеи. Мы — Татуированные Макароны. Мы — Бессмысленны. И с нами придет Революция — бессмысленная и беспощадная.
…Саша и не заметил, как рассвело. Словно очарованный, шел он по грязной, хлюпающей земле; снег давно перестал падать и растаял. Теперь даже с гордостью шел он и смотрел в лица прохожих. Они еще узнают кто он, они еще услышат…
— Давай, вставай! Давай, вставай! Я прошу вас, помогите, пожалуйста! — молодой парень в болоневой куртке и в фиолетовой вязаной шапочке с надрывом, пьяно ревел, дергая за рукав пальто своего товарища, лежавшего возле стены дома, другой рукой взывая к проходящим мимо людям:
— Помогите, пожалуйста! Ему плохо, помогите, пожалуйста!
Люди шарахались от него, парень был сильно пьян. Лицо и руки его были выпачканы грязью, слезами и кровью. — Помогите же, люди!!! Нас убивали! Нас хотели убить, помогите, пожалуйста! Суки, бляди, чтоб вы все сдохли, люди!!! Я вас всех ненавижу, люди. Вставай Витя, вставай, они все бляди, все суки, вставай. Пожалуйста.
Оторвав от земли окровавленную голову, Витя неожиданно ясно и зло произнес, глядя на державшего его за рукав пальто своего товарища:
— Пошел ты в жопу, Вова, ты говно и придурок. Я тебя ненавижу, урод, все из-за тебя, пошел ты в жопу, придурок, — и, вновь уронив лицо в грязь, заплакал, пьяно скуля: — Ты урод, ты придурок, я тебя ненавижу, урод, все из-за тебя…
— Я придурок?! Я урод?! Да я спасти тебя хотел, сука! — Вова вдруг зло и с размаху всадил ногой Вите в живот. — Сука, я придурок?! Да я спасти тебя хотел, я помочь тебе хотел, я на помощь звал, ты же друг мне. Я — придурок?! И после всего этого, я — придурок?! — пьяно ревел он, ладонями утирая слезы и ногой всаживая в Витю крепкие пинки. — Я? Придурок?!..
Люди торопливо проходили мимо. Заморожено, стоя в трех шагах от этих двух пьяных парней Саша смотрел на них.
— Что смотришь, петух? — заметив Черкасова, рявкнул ему друг Вити.
— Ты просил помочь… — это прозвучало так нелепо…
— Я сейчас помогу тебе, урод! — и парень бросился на Черкасова, но, споткнувшись, растянулся на асфальте. — Стой, — шипел он, поднимаясь с асфальта. Но Черкасов, уже не оборачиваясь, скоро шел прочь; очарованность его как водой смыло. До начала уроков оставалось минут сорок, нужно было увидеть Женьку и узнать, что да как — теперь его это очень сильно волновало. Он шел в школу.
Следователь, Константин Владимирович, высокий тридцатилетний и довольно тучный молодой человек с опухшими, красными, после бессонной ночи, глазами, сидел за кухонным столом. Напротив него, бледная, сидела мама Саши Черкасова. Два опера лет двадцати семи стояли возле окна, один курил, стряхивая пепел в горшок с фиалками.
— Я ничего не понимаю, — бормотала пересохшими губами мама Саши Черкасова, — он убежал из дома… было половина седьмого… я ничего не понимаю. Он преступник… мой Сашенька преступник? Это ошибка…
Читать дальше