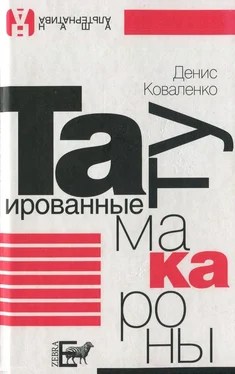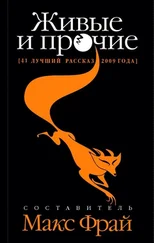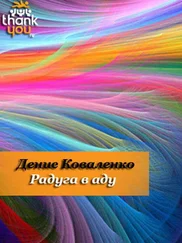— Конечно. Вижу, и вы все понимаете. Значит, не потерянный вы человек, молодчина-таки, — панибратски хлопнул Черкасов своего бывшего учителя по плечу. — Знал бы, не выкидывал деньги, а отдал бы вам, — с тихой гордостью произнес он. — Я ведь сегодня преступление совершил — я женщину изнасиловал и ограбил — бессмысленно. А деньги в помойку выбросил, потому что не нужны мне ее деньги. А вот только что, — он кивнул в сторону «Макдональдса», — стекло в тошниловке рассандякал — камнем, — гордость стала насыщаться той самой прочной ненавистью, — взял и метнул камень и ушел — спокойно. И сижу вот с тобой , и выслушиваю твои сопли. И надоел ты мне, — неожиданно зло заключил он. — Все мне надоело. Все бессмысленно, — он поднялся, спрыгнул на землю и, не говоря ни слова, зашагал в сторону Арбата.
Виталий, казалось, даже не удивился такому обороту.
— Да-а, бедный мальчик, — совсем старчески произнес он, глядя вслед уходящему Саше. Саша шагал широко, спину держал осанисто, но что-то неестественное было во всей его надменной фигуре, словно он знал, что на него смотрят. И осанка его, и широкий уверенный шаг — все было показным, для чужих глаз.
Взглядом проводив смешавшегося в людской суете улицы Сашу, Виталий поднялся с лавочки и неторопливо побрел к Пушкинской площади. Усталость его переросла в полное равнодушие ко всему. Проходя мимо «Макдональдса», с равнодушием, без малейшего интереса и даже любопытства он посмотрел на рваную дыру в стекле витрины, расползшуюся длинными, колючими щупальцами-трещинами; на людей, столпившихся вокруг этой дыры; на машину «скорой помощи», куда сажали двух женщин с порезанными осколками руками; на милиционеров, что-то живо расспрашивающих у прохожих; на двух возмущающихся подростков, одетых в кожаные косые куртки и которых человек пять милиционеров впихивали в милицейскую машину; все это не произвело на Виталия ни малейшего впечатления. Спустившись в подземный переход, он подошел к турникетам станции метро «Тверская». Вставил карточку с последней поездкой («Символично», — щекотнула нервы грустная мысль). Усмехнувшись, опустив бесполезную теперь карточку в мусорное ведро — опустив, красивым жестом разомкнув пальцы, — Виталий ступил на ленту эскалатора, всем телом облокотившись на движущийся резиновый поручень, и так и замер, бессмысленно цепляя взглядом бесконечный ряд рекламных щитов. Он ехал на Павелецкий вокзал.
Виталий даже не расстроился, когда, войдя в здание вокзала, убедился, что до Липецка поездов в ближайшие часы больше нет; единственный ближайший, до Ранинбурга — в два ночи.
— Ну, давайте до Ранинбурга, — взяв билет, Виталий вышел из зала касс.
До поезда еще целых четыре часа. Мелкий дождик рисовал тоскливо блестящие кольца в освещенных фонарями розовых лужах. Но, как Виталий не чувствовал себя измотанным и продрогшим, просидеть целых четыре часа в таборно-беспокойном зале ожиданий, где, как нигде, сконцентрирован удушливо-тревожный запах ожидания дальней дороги; где, куда бы ни падал взгляд, он неизбежно натыкался на тюки и чемоданы; где один вид беспокойно-тоскливых лиц, мрачно пережевывающих вареные яйца и соленые огурцы — неизменную пищу любого пассажира — нагоняет такую жутко невыносимую тревогу, что… «Нет, в это чистилище, своей волей… — Виталий поморщился, только вспомнив кисло-тухлый запах зала ожидания, — нет, лучше уж напоследок прогуляюсь, так сказать, по-людски попрощаюсь с этим Городом».
Слабо усмехнувшись — одними глазами — он, хлюпая вконец отсыревшими туфлями, пересек трамвайную линию и зашел в грязную темноту дворов.
Мысли его теперь были далеко, в Липецке: он представлял, как удивится мать и как она обрадуется, а что потом?.. А ничего.
«Ничего не будет, — размышлял он, — зайду к кому-нибудь из знакомых… расскажу, как замечательно жил в Москве. Врать буду, скажу, что надоело все, взял и уехал. Потому что нет на земле лучше города, чем Липецк, — он в отвращении мотнул головой в досаде на такую издевательскую мысль. — А что, придется врать, ведь не расскажу же я правду, как я… да-а, — немедленно всплыл образ Лены, следом, неожиданно, Черкасов, уходящий широко и осанисто в сторону Арбата. — Да-а… Ну ничего. Иду красивый, двадцати двух… да-а… — все повторял он это протяжное «да-а…», словно причитая. Образы прыгали, как зайчики, лихо сменяя друг друга: Черкасов Лену, Лена Черкасова, а вот и Ривкин, доказывающий, что он художник, а все остальные… «Да-а…», — и все это в оформлении какой-то грустной, дурацкой песенки, услышанной мельком на вокзале, и вот теперь назойливо привязавшейся, со своим простеньким, запоминающимся и оттого навязчивым мотивчиком:
Читать дальше