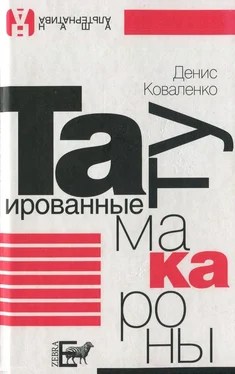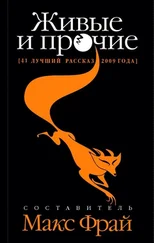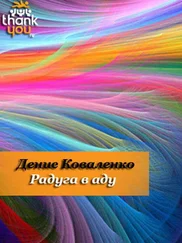Солнце давно зашло, уже и сумерки незаметно растворялись в густой темноте ночи, но это ощущалось, если, задрав голову, смотреть в небо — тревожное, рыхлое местами, забранное тяжелыми пористыми плитами задумчивых в своей черноте туч — грязно-фиолетовое ноябрьское небо. Здесь же, на земле, стоял жесткий, неоновый заслон, рубивший влет эту фиолетовую тоску яростными красно-желтыми огнями реклам и витрин, рассеивая ночь по тоскливо-угрюмым многочисленным переулкам и улочкам, исподтишка поглядывающих на это яростно-неоновое великолепие проспекта. Из одного такого переулка и вышел Саша Черкасов.
«Бессмысленно, все должно быть преступно и бессмысленно», — с таким боевым настроем он вклинился в пестрый, суетливо-угрюмый человеческий поток. Пристроившись в хвост какой-то прилично одетой дамы Саша, видя лишь узкую спину ее приталенного, добротной кожи рыжего цвета, плаща, отороченного лисицей, и стройные ноги в элегантных ботфортах, стал гадать, какое у нее лицо. Нарисовав себе длинноносую уродину с накладными ресницами, лет эдак тридцати, он обогнал ее и даже обиделся, увидев вполне миловидную даму, возраста далеко забальзаковского; обиделся, отстал на несколько шагов и уже откровенно стал ее преследовать.
«Э, брат, да тут уже определенный смысл, — неожиданно подумал он, — а это уже идет вразрез идее». Подумав, он тут же плюнул ей на пятку. Попал. Воровато оглянувшись и убедившись, что никому нет до него дела, плюнул еще раз, промазал. Шагов через тридцать обе пятки дамы блестели слюнявыми подтеками. Довольный собой, Саша оставил ее. Свернув, он спустился в подземный переход и вышел на противоположную сторону проспекта.
Через полчаса ему надоели бессмысленные мелкие пакости. Саше стало скучно. Не зная, чего бы еще такого натворить, следуя за каким-то строго одетым мужчиной, которому, якобы случайно толкнув его, Саша прилепил на спину пальто специально для этого жеваную жевательную резинку. Извинившись, отстав на пару шагов, он шел теперь за мужчиной и теперь, действительно без всякого смысла, смотрел на этот лоснящийся бугорок, прыщом торчавший из короткого ворса кашемирового пальто. «Прыщ» свернул в высокую полукруглую арку, Черкасов за ним. Зайдя вглубь двора, мужчина подошел к скромного вида входу, где из приотворенной двери лился мягкий тепло-лимонный свет; распахнув дверь, мужчина ступил внутрь; Черкасов следом. Оказался какой-то камерный то ли театр, то ли клуб. В небольшом холле, у стены находилась гардеробная с типичной театральной гардеробщицей в очках и в халате, наблюдавшей, облокотившись на перегородную тумбу, за входящими и принимающей у них одежду. У стены, возле высокой металлической пепельницы, стояли трое бородатых мужчин лет пятидесяти в вязаных свитерах и молодая девушка с какими-то неспокойными глазами, в пестром балахоне.
Сняв пальто, сдав его гардеробщице, мужчина с приветственным возгласом подошел к компании. В своей кожаной косухе и толстовке с оскаленной на ней беззубой мордой, Саша сразу, только войдя, захотел уйти — неловко ему здесь стало. Замявшись в дверях, он вдруг, точно подхлестнув себя, не глядя ни на кого, уверенно прошел в холл, завернул в коридор и оказался в небольшом зале со столиками, баром и сценой у левой от входа стены, где на стуле сидел лысоватый мужчина в белом свитере и, аккомпанируя себе на гитаре, и стараясь высоко вытягивать непосильные для него ноты, пел, с каким-то тоскливым блеянием, о несчастной своей потерянной жизни, задаваясь вечным вопросом: зачем сюда он послан Богом, кто виноват в его судьбе? — Пел долго, пел про мир, где сплошной обман и ненависть и нет любви, а одно разочарование и вот он бредет по этой своей дороге разочарования, и сердце его чует новую беду.
Стоя возле дверей, Черкасов слушал и внимательно вглядывался в полумрак залы. За столиками сидели люди, пили коньяк, кофе, слушали пение. Сделав последний аккорд, певец кончил; сдержанные, приличествующие обстановке аплодисменты. Через некоторое время на стуле сидел уже другой мужчина с гитарой, с убранными в хвостик жиденькими каштановыми волосиками и в очках. Точно сговорившись с первым, так же тихо затосковал о своей судьбе, задаваясь тем же вопросом: кто виноват, что он один, и жизнь одна и так длинна, а он все ждет, что он когда-нибудь умрет.
И вдруг эту степенную, полувековую тоску разорвал, взвыв юродиво-глумливым дискантом, злой мальчишеский голос:
— Ах, зачем я на свет появи-ился!
Читать дальше