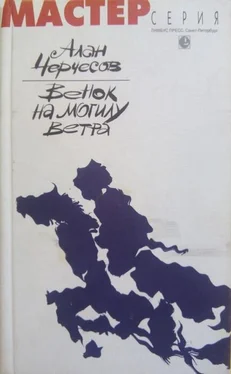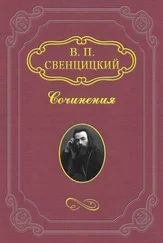«Запали-ка костер, — сказала я ей, дав утереться оранжевой шалью, подаренной одним из княжьих друзей. Для пыльного дня и знойного солнца цвет у шали был как раз подходящий. (Глядеть на нее было все равно что поливать против света вином искристые стенки стекла). — Запали костер, а я пока придумаю, как нас теперь накормить, не съезжая с этого места». — «Не надо, — взмолилась сестра. — Не хватало тебе взять и ее кровь себе на душу». — «Все равно околеет, — возразила ей я. — Погляди ей на зубы. Она уже мертва, просто сама не догадывается. Надо убить, пока дышит».
Подсохший потник из-под седла валялся тут же, неподалеку. В притороченной походной сумке я отыскала нож, примерившись, покрепче взяла его в руку и пошла к своей лошади. «Погоди, — сказала сестра. — Сперва надо стреножить». Я послушалась, и мы, заманив лошадь в овраг, обвязали ей ноги уздой. «Совсем как нас этим утром», — пробормотала сестра. «Только везенье ее другое», — сказала я. Сестра смолчала. Кобыла едва держалась на ногах, так что повалить ее наземь труда не составило. Потом я зашла со спины и со всего маху полоснула ножом ей по горлу.
Все оказалось сложней, чем мы думали: глядеть на то, как она бьется и страшно хрипит на траве было невмоготу, так что я побрела вслед за сестрой в душную степь. (Пустая и ровная, она цепляла нас за ноги сухим ковылем и поднимала пыль к нашим лицам). «Видишь, — сказала сестра, — наверно, мы все-таки лучше». «Перестань, — сказала я, — не то я завою». Вторая лошадь сбежала в горизонт и, впечатанная в марево, была похожа издали на подросшего полевого кузнечика. «Если мы лучше, нам все же простительней», — твердила свое сестра. Я развернула ее за плечи к себе и громко сказала, не узнав своего голоса: «Ответь-ка мне как на духу: у кого это ты, праведница, все прощения просишь? У князя, цыган, у Помойки или, может, у Бога?.. Перед кем спешишь держать ответ? Кто тебе из всех этих выродков милей и дороже?» — «Я не о них, — сказала сестра, смахнув мою руку с плеча. — Я об отце и о матери…» От ее слов мне снова стало нехорошо. (Я вдруг поняла, что чуть ли не впервые за все эти годы наши души, слепо махая крыльями, больно сшиблись ими там как раз, где места было вдоволь не только для позора и горя, но и для грусти, простой и спасительной, как слеза). Крепко обняв сестру за плечи, я безмолвно, сердце в сердце, попросила у нее прощения.
Мы так и не сумели подойти к издохшей кобыле. (Я была рада за сестру, а она — за меня, потому что голод был легче грозившей нам сытости. Заночевав в степи, мы встретили новое утро очистившимся дыханием и искренним волнением в груди). Выловив лошадь, мы двинулись к югу, потому что туда перед тем отправился что-то искать деловитый, все знающий ветер.
А уже к вечеру нас встретил холмами задумчивый город. «Гляди, — сказала сестра, — ни одного шатра перед стенами. По крайней мере, отдохнем от цыган». Мы рассмеялись и, ведя под уздцы кобылу, вошли в широкие ворота. (На первой же улочке мы услыхали, что город говорит на том самом зрячем, гибком языке, который мы уже почти успели забыть, однако, едва зазвучав многоголосой речью, он тут же ожил в нас нечаянной радостью, от которой на глаза навертывались слезы. «Если ее здесь и нет, — подумала я (конечно, о матери), — здесь есть ее тень, а это немало»).
XV
В первый же месяц мы продали лошадь, кольцо и оставшийся шелк. Счастье наше было спокойно и сонно (ленивая передышка от жизни, когда ты плывешь рядом с нею на уступчивых волнах, слушаешь все ее звуки, но дышишь чем-то другим и потому никак от нее не зависишь).
Сон закончился вместе с деньгами. Очнувшись от дремы, мы стали торговать свободой: никакого другого товара у нас, в общем-то, не было. Этот зато имелся в избытке. Чтобы было легче решиться, сестра говорила: «Подумай сама: никто из них нам не нужен. Мы знаем им цену. Перестань себе лгать, и ты вспомнишь, как они плевали нам вслед. А вот наша с тобою цена теперь поднялась: одна обида в ней вон сколько стоит! Для нас они все равно что початки для мельницы — знай лущи себе с них золотое зерно, а пустышку выбрасывай свиньям!..»
Мы лущили по-разному. Веселее всего было красть. Хотя и рискованно очень. (Иногда обходилось и танцами, но чаще им нужно было лишь тело. Хорошо, если удавалось продать его на месяц-другой офицеру из щедрых или, скажем, купцу, но такая удача бывала не часто. А потом она, как всегда до того, отвернулась и вовсе.
Наверно, в том была моя лишь вина, только я не стерпела, а сестра — та не сказала и слова упрека, когда вдруг однажды мне стало как прежде противно, и я, озверев от громкого гула в ушах, вцепилась ногтями в жирную шею старого турка, державшего чайную за углом. Я давила потный кадык до тех пор, пока прямо подо мной не проступили черным тавром его выпученные от ужаса глаза. Я просто забылась от злобы. Все было так, будто я нащупала руками скользкое мясо червя, подкравшегося к запретной тьме моей памяти. А спустя минуту, покорно позволив мне обчистить карманы и сундуки, те же глаза безропотно следили, как я беру, запихивая в бумажный кулек из-под вишен, ассигнации и бестолковые побрякушки из серебра. Турок глядел на меня сквозь слезы и мелко-мелко дрожал, так его проняло. Слезы те он вполне заслужил — пострадал-то за дело. Он допустил непростительную ошибку. Ее благополучно избегли все те, кто умел не только считать деньги в своих кошельках, но и самую малость читать в лицах тех, кого они покупали. «Прекрати трястись и внимательно выслушай то, что я сейчас скажу. Я спаяю тебя, твою квочку-жену и весь твой выводок, если ты двинешься с места раньше, чем в это окно войдет над тобой посмеяться новое солнце. И даже тогда не вздумай сказать, что я тебя обобрала: это всего только плата — за один, но бесценный урок. Справедливости. Стоит он гораздо дороже. Поверь, тебе повезло…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу