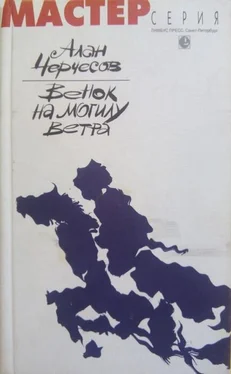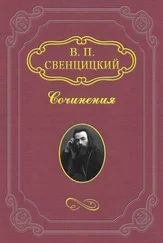Когда я вернулась, сестра настолько собой овладела, что умудрилась мне улыбнуться. Горбун углубился в камыши и что-то искал там, волнуясь. «Я сказала ему, что в них растет мой любимый цветок. Большущий и красный, как кровь», — пояснила она. Я промолчала. (Я знала, мы думаем в этот миг об одном: как так случилось, что мы обе все-таки живы, и: живы ли мы или нам это кажется?)
Остаток дня мы парились в бане, заплетали косы, молчали, обедали, спали и снова садились за стол, но уже не с прислугой, а с князем. Во время ужина он подарил нам по большому кольцу с рубинами, сказав: «Это вам за Помойку». Мы сказали: спасибо.
Темнело по-летнему поздно. Проведя перед этим бессонную ночь и трудное утро, князь к вечеру сдал. Поклевав носом за бутылкой вина, он поднялся к себе и заснул. Тесак ждал Помойку за столбом у ворот, а дверь в дом давно была отперта. Мы с сестрой притаились в сенях. Слуги все разошлись кто куда, но если бы кто задержался, клянусь, мы бы тоже не дрогнули. (Помню, я еще подумала, что убийца — это не тот, кто ошалел от злобы, потерял рассудок и жаждет расправы, а тот, кто просто перестал бояться — не только других, но себя самого).
Помойка вошел весь дрожа, сестра взяла его за руку и повела через комнаты к лестнице, а там, поднявшись по ступенькам, прижала палец ко рту и указала на дверь, потом жестом пояснила, что мы уходим за лошадьми, и быстро спустилась.
В конюшне было прохладно, но душно. Там пахло навозом и чем-то еще… (Наверно, так вот должна пахнуть правда, подумала я). Обе кобылы были уже оседланы и нервно били копытами по земле. «Подожди, — сказала сестра, когда мы выехали на двор. — Я кое-что для них припасла… Жалко так уезжать». Спрыгнув с седла, она достала из-под крыльца лампу и запалила в ней масло, потом швырнула ее в распахнутое окно сеней. (И в тот же миг, пришпорив коней, мы поскакали в поспевшую звездами ночь. Где-то позади занимался пожар, слышались крики, но нас это не тревожило. Мы многому выучились у цыган. Во всяком случае, здорово умели скакать по ночи и вдыхать ее неподдельную радость…)
Уже почти рассвело. Вон, как бьется жилкой заря над горой… (Спасибо тебе, что не струсил. Можешь ничего не говорить. Я знаю, сейчас тебе не до слов. Да и мне осталось немного). Не надо меня целовать, а то я решу, что ты лжешь…
— Это не то, что ты думаешь.
— Я люблю тебя. Я люблю тебя так, что мне больно. (Туда я вернулась в последний раз затем, чтоб больше никогда и не вспомнить. А тебе рассказала, потому что иначе нельзя. Не хочу, чтоб вся эта грязь волочилась за мной по пятам. Рано или поздно, — она бы вышла наружу и запачкала нас. Запачкала б гаже и — навсегда.
— Ты права. Прошлое убить труднее, чем тех, кто его отравил. Когда-нибудь я расскажу тебе о своем. Л сейчас — продолжай…)
Скакали мы долго, пока не загнали своих лошадей. Моя шаталась и хрипела, и в ноздрях ее пенилась кровь. Кобыла сестры словно взбесилась и не подпускала ее к себе ближе, чем на двадцать шагов, как будто боялась, что та снова вскочит в седло и уж теперь точно не успокоится, пока не разорвет ей сердце в клочки. Сестра села в траву и заплакала. «Мы забыли еду, — сказала я, чтобы что-то сказать. — Мы забыли оружие и деньги. Все, что у нас есть — это кольца с рубинами». Услышав про кольца, она содрала с пальца свое и швырнула его подальше в траву. (В степи было жарко и кисло от пустившей соки земли. Где-то за холмами могла быть река. Я пошла к ручью, спустилась в овраг и стала лепить из воды чистоту на ладонях. Кольцо я тоже сняла, но припрятала его на груди, зацепив за шнурок — точно такие шнурки носили те шесть заморышей, что на четыре года почти стали нам сводными братьями и сестрой. Вспомнив свой ужас в ту ночь, когда они готовили нам свое прощание, я усмехнулась: соплякам было невдомек, что такое настоящая боль. Сейчас они были так от нас далеко, что казались ничтожными. К тому же мне было совсем не до них: я знала, нам надо двигаться дальше, вперед, ну а они — они давно застряли где-то в разводах туманной дороги, какой она станет для нас лишь по осени. Я знала: задолго до осени нам предстоит выбрать новую жизнь, потому как помереть от стыда в прежней у нас отчего-то не вышло. Зато нам удалось из нее выбраться, а значит, теперь мы могли запереть ее поглубже в свою гулящую память, где уже нашли бессловесный приют три другие: жизнь с матерью, пять лет, проведенных с отцом, да четыре года с цыганами. Отныне мы были предоставлены сами себе, умели продавать свое тело и напрочь выскоблили жалость из душ. В целом свете не было ничего, что могло бы нас испугать. Мы не знали толком ни кто мы, ни куда держим путь, ни сколько нам в точности лет, но это и впрямь не имело значения: миру было на нас наплевать, и мы были готовы отвечать ему тем же). Для начала нам следовало подкрепиться и переночевать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу