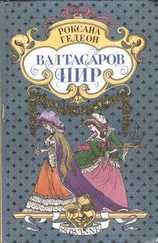— Вот и сегодня мой кожаный портфель понес продавать, — сказал Кензель.
— Ваш?
— Мой, а чей же! — Кензель вздохнул, не сознавая, что инженер все в более невыгодном свете предстает перед Уриашевичем. — На работу мне с ним все равно не ходить! — И сдавленным голосом прибавил: — Ни здесь, ни в Варшаве, ни сегодня, ни завтра. Вообще никогда!
Он разжал пальцы. Выпавший из руки топор со звоном ударился о камень. Глаза у Кензеля злобно блеснули.
— Еще полон сил, а приходится здесь торчать. Да еще бога надо за это благодарить. Могло и хуже быть, я со дня на день жду самого худшего. — И, придвинувшись вплотную к Анджею, он наконец выложил свою тайну. — Помнишь тот месяц, когда твоего отца расстреляли, дядю арестовали и из дирекции остался на фабрике я один. Вот и стали на меня наседать, чтобы я вошел в контакт с немецкими властями и спас положение. Иначе фабрике конец: немцы ее конфискуют. Или назначат уполномоченного, немца. И Леварты потеряют тогда над ней контроль. Наседали на меня, наседали, а ты ведь знаешь, я по происхождению немец.
Анджею сделалось не по себе от услышанного.
— Кто же на вас наседал? — спросил он упавшим голосом.
— Больше всех вдова Станислава Леварта, Роза.
Уриашевич был возмущен. Он вспомнил, какие сплетни ходили во время оккупации о ее связях с немцами. Но сплетни сплетнями, а налицо и бесспорный факт: ее брак с австрийским офицером, с которым она познакомилась накануне восстания.
— А почему же она сама не воспользовалась своими знакомствами? — спросил Анджей язвительно. — Не говоря уж о том, что с таким же успехом могла бы немкой себя объявить, если ей это казалось выходом из положения. Леварты тоже немцы по происхождению.
— Она компрометировать себя не хотела, — ответил Кензель. — Ни сотрудничеством, ни принадлежностью к ним. Ведь Леварты были люди слишком заметные.
Вся эта казуистика звучала нелепо. Особенно в устах Кензеля. Будто он с чужих слов это повторял, как затверженный урок. Уриашевич нетерпеливо махнул рукой.
— Ты молод еще, многого не понимаешь, — произнес Кензель с грустью. — А вот дядя твой Конрад не осуждает меня и Рокицинский тоже. Я с Рокицинским никогда не был в близких отношениях, но, когда началось январское наступление и у меня могли быть неприятности, он мне свою помощь предложил.
— Знаю. Он говорил.
— Он говорил с тобой обо мне? — встревожился Кензель.
— Благодаря ему я вас разыскал в конце концов.
Кензель побелел как мел.
— То есть как это благодаря ему? Только пану Конраду известно, где я, больше никому!
— Дяде Конраду?! — Уриашевич остолбенел от удивления. — Да ведь он клялся, будто вас в живых нет!
— Значит, не он послал тебя сюда?
— Куда же он мог меня послать, если врал, будто вы погибли? — горько рассмеялся Анджей. — На кладбище, что ли?
Потрясенные, смотрели они с минуту друг на друга, не зная, что сказать. Поведение дяди было для Анджея загадкой. Кензель, встревоженный тем, что его легко найти, думал о другом и молчал, тяжело дыша. Путь, который с таким трудом проделал Уриашевич, чтобы добраться до него, представился ему прямым и гладким. А несколько человек, чьи советы и помощь облегчили поиски: Рокицинский, Нацевич, ксендз Спос, викарий, Завичинский, — превратились в его воображении в целую толпу.
— Боже! — схватился он за лоб длинными, тонкими костлявыми пальцами. — Все кончено! — Но вдруг, вскинув голову, насупился. — Ты меня обманываешь! Ты от Конрада узнал.
— Если бы так, — повысил голос Уриашевич, — не пришлось бы мне тратить на поиски несколько месяцев и втягивать в это посторонних людей!
— Да, верно, — прошептал подавленный, окончательно сраженный Кензель. — Вначале ты упомянул, что долго искал меня, я даже хотел подробней порасспросить тебя, но мы торопились, с одного на другое перескакивали. Впрочем, в первую минуту я на это внимания не обратил. Настолько твердо я был убежден, что адрес мой знает только твой дядя. Теперь все ясно!
— Что? Дядин поступок?
— Да нет! — Кензеля одно только занимало, а почему Конрад Уриашевич поступил так, а не иначе, и с каким расчетом, ему было совершенно безразлично. — Пропал я! — простонал он и пошатнулся. От страха сердце у него замирало. И веки нервно подергивались. Даже губы и язык пересохли, оттого что дышал он быстро и часто. — Из дома никуда не выхожу, всяческие предосторожности соблюдаю, в глуши живу, в стороне от всего, каждый шаг свой рассчитываю, — запричитал он. — В Мостники только на почту хожу, когда перевод приходит от пана Конрада. Даже в столовую зайти боюсь, изредка выпью только что-нибудь на станции — там внимания не привлечешь, сойдешь за проезжего. И вот, несмотря ни на что! На все предосторожности!
Читать дальше
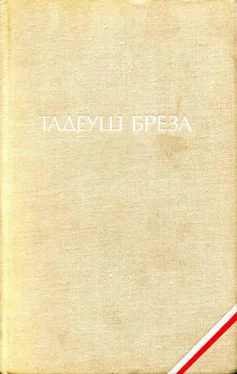


![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](/books/86330/filip-farmer-pir-potaennyj-pir-potaennyj-poveli-thumb.webp)