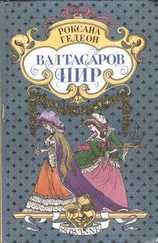— Перевод от Конрада? — переспросил Анджей, думая, что ослышался.
— Чего ты удивляешься, ведь должен я на что-то жить, — ответил Кензель. — Я оставил у него немного золота, и, когда мне нужно, он продает. Здесь я бы не рискнул. И от глаз людских не укроешься, и для грабителей соблазн.
— Уму непостижимо! — прошептал Уриашевич.
— Иной раз не рассчитаю, и деньги кончаются раньше, чем Конрад пришлет, — продолжал Кензель. — Приходится тогда какую-нибудь мелочь на месте продавать, вот как сегодня. Но, как правило, Конрад меня выручает.
— Значит, вы поддерживаете с ним постоянную связь?
— Только с ним и ни с кем больше! — уверял Кензель. — С самого начала, как только я тут спрятался. Через него же и Левартам пытался дать знать насчет «Пира».
— Вот оно что! — покачал головой Уриашевич.
О том, что он дал знать Левартам, Кензель упоминал уже. Но не сказал, через кого. Теперь картина взаимоотношений Кензеля с Конрадом постепенно прояснялась. Но почему тот лгал, по-прежнему было непонятно. Анджей молчал. Неловко и неприятно было глядеть, как здоровенный, долговязый Кензель, сгорбившись и побледнев, с искаженным лицом, с отвисшей нижней губой, от страха таращил глаза: живое воплощение старого, убогого, убитого горем человека. Когда попытался он направиться к дому, ноги отказались ему повиноваться, Анджею пришлось его поддержать.
Наконец Кензель сдвинулся с места. И тут новый прилив страха за свою шкуру придал ему сил.
— Забирай отсюда «Пир»! И немедленно! — закричал он. — Придут, обнаружат: лишнее доказательство, что я — Кензель! Хватит, намаялся я с этой картиной! Забирай, пока она меня не погубила! Не хватает еще только в тюрьму из-за нее угодить. Или чтобы меня в суд тягали! Позор, огласка — это хуже всего!
Единственное, чем Кензель мог облегчить свое положение, — отделаться от картины. Поэтому он так и ухватился за это.
— Забирай — и как можно скорее! Как можно скорее! — настаивал он. — Она в подвале под обломками лежит. Откопать ее пара пустяков.
— Хорошо, заберу, — сказал Анджей.
— Но когда? Когда?
— Сперва надо в Варшаву съездить, почву подготовить.
— Нет, нет! Немедленно забирай!
Последовало еще несколько таких коротких, бессвязных вспышек, — сбивчивых заклинаний Кензеля и попыток Анджея воззвать к его благоразумию. В разгаре перепалки выяснилось, что хозяева Кензеля не знают, почему он изменил фамилию.
— А о картине им известно что-нибудь? — спросил Уриашевич.
— Они думают, что в коробке архив.
— Чей архив?
— Какой-нибудь организации политической.
— В таком случае, кто же вы сами, по их мнению?
Глаза Кензеля опять округлились.
— Ведь, если придет милиция и окажется не то, они могут совсем голову потерять. Мою настоящую фамилию откроют, — забормотал Кензель. — Скажут, что мы были знакомы до войны. Если при обыске обнаружится, что в футляре, который они прятали, не документы, а картина, им самим это может показаться подозрительным. Струсят и сыпать меня начнут. Выдадут.
В приступе страха Кензель способен вынести картину, вышвырнуть ее на дорогу или в ближайшей речке утопить. Для Уриашевича это было совершенно очевидно.
— Пан директор, — сказал он, — завтра я еду в Варшаву. Потерпите денек-другой, и от картины я вас избавлю.
* * *
В Ежовую Волю Анджей вернулся только к ужину. Усталый, измученный, обессиленный от долгой ходьбы и потребовавших большого нервного напряжения разговоров — с Кензелем и еще раньше с викарием. Возле школы повеяло на него теплым запахом нагретого солнцем парка и огорода. От ворот направился он прямо к канцелярии. С каким удовольствием пошел бы прямо к себе и лег — не до разговоров сейчас, не до еды и мытья, — больше всего хотелось заснуть. Но надо с директором договориться. Анджей открыл дверь в канцелярию, она гудела, как улей. Смерть поручика, ночная перестрелка, нападение на фабрику не сходили с уст. О побеге ксендза Споса все уже знали, как и о том, что налет не случайно совпал с престольным праздником: это было подстроено заранее. Подтверждалось это разными фактами, которые только сейчас выплыли наружу. Смутные догадки, предположения, опасения местных жителей внезапно обрели твердую почву, озарились светом, как при вспышке молнии, — но светом зловещим, кровавым. Уриашевич примостился на подоконнике. Раздался удар гонга. Большинство педагогов питались с учениками. И канцелярия быстро опустела. Анджей, воспользовавшись этим, остановил в дверях директора и попросил отпустить его на несколько дней в Варшаву.
Читать дальше
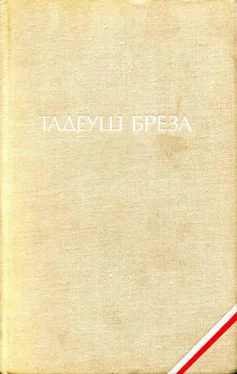


![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](/books/86330/filip-farmer-pir-potaennyj-pir-potaennyj-poveli-thumb.webp)