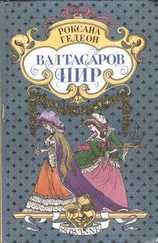Страх, вызванный грозной для него новостью, уступил место настороженности при виде явной перемены, которая произошла с его приятелем.
— Чего задаешься? — сказал он.
— А ты чего трусишь?
— Я? Да бог с тобой! — уверенно, без запинки говорил Хаза. — Человек только с дороги, устал, а тебе невесть что в голову лезет.
— Входи, — отворил дверь Уриашевич.
Ванда Уриашевич шла по солнцепеку. Она запыхалась, глаза у нее застилало. На левом рукаве пестрого платья чернела широкая траурная повязка. С темно-синей соломенной шляпки свисала сзади черная вуаль. За спиной же болтался неизменный рюкзак, только в тот день довольно тощий. Тем не менее он оттягивал плечи гораздо сильнее обычного. Выйдя от сестер-грегорианок, Ванда взяла было его в руки, потом под мышку, потом — опять в руки. Нести рюкзак за спиной, когда ты в трауре, казалось ей неприличным. Но усталые руки совсем занемели, из-под мышки он тоже выскальзывал. И пришлось в конце концов надеть его на спину. Была не была!
Все равно одно только звание, что траур! Ни платья, какое полагается, ни чулок черных, ни черных туфель. Шляпы подходящей и той нет. Вместо полного траура — всего два метра крепа и то на двоих с Тосей. Ни «Caritas», ни сестры-грегорианки не смогли ничем помочь. Или не захотели, кто их знает. Милосердие капризно. Даже в лучшие времена с замиранием сердца приближалась Ванда к его вратам. А теперь положение изменилось к худшему. Хуже, кажется, и некуда.
Ванда остановилась: оглядеться, где она. Как-то так получилось, что после войны ни разу не пришлось ей бывать в этих местах. Здесь тоже строили. С лесов доносились крики. Земля от гигантских бетономешалок сотрясалась. Но Ванда даже в спокойном состоянии не обращала внимания на подобные вещи. А сегодня — и подавно. Взглянула только на номер дома и поплелась дальше. Идти еще порядочно. Здесь начало улицы, а нужный дом — на другом конце.
Но вот она позвонила у дверей. В приемном покое ей дали нужные сведения. На лифте поднялась она на указанный этаж. Однако отыскать палату в темном коридоре удалось не сразу. А отыскав, она немножко постояла перед дверью. Еще немножко, еще. С сердцем нет никакого сладу.
— Вы к пани Дюрсен?
Обернувшись, она увидела устремленные на нее глаза. Потом различила в полутьме чепец с красным крестом. Но не на чепец, не на белый крахмальный фартук воззрилась Ванда. Как завороженная, смотрела она на поднос с ампулами, шприцами, иглами, пузырьками в руках сиделки. У Ванды при виде такого изобилия болезненно сжалось сердце. Все хлопоты, все заботы ожили в ее памяти. Тысячи ухищрений припомнились, и прежнее беспокойство нахлынуло из-за этих нескончаемых нужд, теперь уже навсегда отпавших.
— Я родственница ее. С печальным известием к ней, — промолвила Ванда, притрагиваясь к трауру на шляпе. — Мама, — пролепетала она, запинаясь: с тех пор как это с младенческих лет привычное слово перестало обозначать живого человека, она не могла без дрожи в голосе произнести его. — Мать.
Склянки на подносе задребезжали.
— Мать больной и моя, — подумав, именно так сочла нужным выразиться Ванда.
— Может быть, с доктором сначала посоветоваться? — полувопросительно заметила сиделка.
— С ней говорили уже, — сказала Ванда. — Вчера наша соседка подготовила больную к возможности такого исхода.
— Ее выпишут скоро, — невзначай обмолвилась сиделка.
Ванда никак не отозвалась на это.
— Врачи сделали все возможное, — продолжала седенькая сестра. — Хотя до полного выздоровления еще очень далеко. Подвижность некоторых суставов у пани Дюрсен ограничена до такой степени, что сейчас она еще полуинвалид. Годы могут пройти, прежде чем наступит улучшение.
— Простите, я тороплюсь, — кивнула сиделке Ванда Уриашевич, не желая ничего про это слышать, и открыла дверь палаты.
Не поднимая глаз, стоя вполоборота к Иоанне, чтобы не глядеть на нее, попыталась она заговорить. Но сочиненное вдвоем с Тосей высокомерно-холодное вступление вылетело у нее из головы. Надлежало начать с того, что они с сестрой, не взирая на прошлое, сочли неудобным передавать это грустное известие через посторонних.
— Присядь, — попросила Иоанна.
Ванда села, как привыкла сидеть возле больных. На краешке постели, в ногах. И подняла опущенные веки. Все закружилось у нее перед глазами: эти золотистые волосы и бескровные губы, эта белизна и бледность, этот прямой, испытующий взгляд — знакомый и незнакомый одновременно, как во сне: упорно преследующий, не дающий покоя, мучительно кого-то напоминающий.
Читать дальше
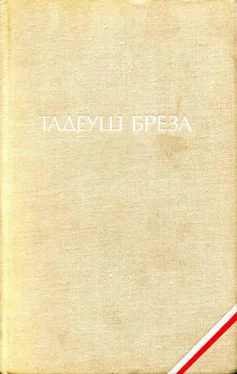


![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](/books/86330/filip-farmer-pir-potaennyj-pir-potaennyj-poveli-thumb.webp)