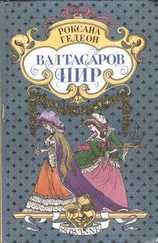— А разве тебе здесь плохо?
— У меня дела есть.
И с этими словами Анджей попытался встать. Но Биркут взглядом пригвоздил его к месту.
— Сиди смирно! — погрозил он пальцем. — Не то, ей-богу, плохо будет. Возьму вот веревку да свяжу, как поросенка.
— Ты очень любезен, — засмеялся Уриашевич. — Но тебе столько хлопот со мной.
— Хочешь закурить?
— С удовольствием.
С минуту они курили молча. От усталости, недавнего напряжения, выпитой водки у Анджея туманилось в голове, и он блаженствовал, полулежа в кресле. Сказывалась и повышенная температура.
— Говоришь, хлопот много с тобой? — чуть погодя заговорил Биркут. — А я грызу себя, что совсем тебе внимания не уделяю. Ты вон когда приехал, а я все никак не соберусь по душам с тобой поговорить. Дел выше головы, телефонные звонки да совещания замучили, вот и откладываю разговор со дня на день.
— А работой моей ты доволен?
— Сойдет с горчичкой.
Уриашевич перегнулся через ручку кресла, поближе к Биркуту.
— Ты об обещанной работе не забудь, — сказал он. — Больше мне ничего не надо.
— Нет! — возразил Биркут. — Работа работой, а беседа беседой. Это тоже важно.
— Ты воспитательную беседу имеешь в виду?
— Вот именно.
Веселые искорки в блестевших глазах Уриашевича погасли. И голос стал серьезней.
— Ну так считай, что уже поговорил со мной. — Анджей вспомнил день своего приезда в Оликсну. — Когда на собрании выступал. До сих пор твой доклад в ушах стоит.
— Это-то понятно, — отозвался Биркут. — Речь ведь шла о вещах, совершенно тебе неизвестных.
Уриашевич вздохнул глубоко и произнес ясно, отчетливо:
— До такой степени неизвестных, аж стыдно!
Он устал и одновременно был возбужден. Лежать с закрытыми глазами было приятно, но хотелось и поговорить. Ни на минуту не покидавшее его и отравлявшее жизнь чувство стыда вдруг исчезло. Им овладел молодой задор. И недовольство собой, копившееся в душе, прорвалось наружу, и слова смело, откровенно полились с губ, которые уж не кривились больше в горькой усмешке.
— Ты со мной уже поговорил! Но со мной и до тебя говорили и после. — Фраза ложилась за фразой легко и свободно. — Говорили много недель и люди, и обстановка, и работа. Еще до приезда сюда влияли на меня разные факты и разные люди. Но, как видно, я тупица безнадежный, коли в Оликсну приехал таким дураком.
Он опустил голову и помолчал. Но, заговорив, опять поднял ее и, уже не отрываясь, смотрел Биркуту прямо в глаза.
— То, что произошло в Варшаве, было для меня страшным ударом. Дело даже не в поражении, это бы еще можно пережить. А в том, что ты и тысячи твоих сверстников — целый город, миллион людей — оказались ставкой в жестокой, сомнительной игре. Вера была потеряна, а мудрость на смену ей не пришла. Да и откуда ей было взяться? Кто мог наставить на ум? Домашние? Или, может, Леварты, перед которыми благоговела наша семья?
— Кто это?
— Фабриканты. У них отец мой и дядя работали.
— Валяй дальше!
— В те дни я просто возненавидел и близких своих, и весь мир, поступки, самые что ни на есть благородные, вызывали у меня отвращение. Презрение даже. Многие, чья участь схожа была, с моей, стали циниками, впали в отчаяние. Или, как я, в апатию. Я дал себе тогда зарок: никогда в жизни ни во что больше не вмешиваться.
— Чтобы за случившееся отомстить?
— Что-то вроде этого.
— Кому ж ты мстить-то хотел? — спросил Биркут. — Известно тебе, по крайней мере, кому это на руку?
— Известно. Я уже в себе это преодолел. Это пройденный этап.
— А ты уверен?
— Уверен. И теперь мне не терпится упущенное наверстать. Работа — вот что нужно мне.
Биркут взял сигарету, которую отложил, когда Уриашевич стал изливать перед ним душу.
— Ты, братец, вот что еще в толк возьми — и это, пожалуй, главное, — проговорил он. — Дело делом, работа работой, но все это яйца выеденного не стоит, если не устроится жизнь у нас так, чтобы не тянуло больше мотаться неприкаянным по свету. В Варшаве сражался ты неплохо, но не за новое, вот и скрутило тебя так. Сражаться надо ради нового, сознательно трудиться для этого, тогда только победишь. Вот наша цель — цель всех честных людей. Когда она будет тебе ясна, тогда с помощью друзей и дорогу найдешь к ней.
— Постараюсь.
Они помолчали.
— Есть вещи, которых ты никогда, пожалуй, не поймешь, — заговорил первым Уриашевич. — Что бывает, например, такое состояние, когда в дыру какую-нибудь хочется забиться, на край света уехать, так все опостылело. И родина и люди. Ну, ничего не мило. Ты даже отдаленного представления об этом не имеешь.
Читать дальше
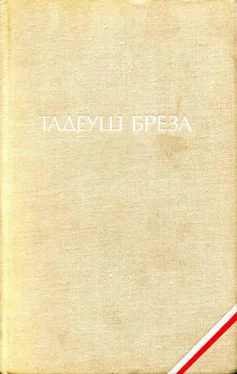


![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](/books/86330/filip-farmer-pir-potaennyj-pir-potaennyj-poveli-thumb.webp)