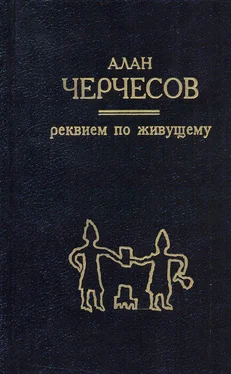И на какое-то время выходило все так, будто и не было никакого убийства, все шло словно по его плану, разгаданному пока лишь только Одиноким, но тот по-прежнему молчал и следил с нихаса за тем, как возводятся у реки новые стены. Возводятся на средства тех самых аульчан, что, прельстившись выгодой, почти две недели все несли и несли, как на жертвенный алтарь, свои сбережения в дом Барысби и складывали в огромный жбан, собственноручно оплачивая обман, динамит и мозги бельгийцев, доставивших его сюда, чтобы взорвать их скалу и похоронить под ее обломками их мельницу, на месте которой на их же деньги Барысби надумал выстроить новую и сделать ее своей, а после заставить их, аульчан, расплачиваться за каждый помол тем же серебром, что уже оплатило их обман, динамит и бельгийцев, что уже было пущено на приобретение жерновов, которые, по мысли Барысби, в отличие от прежних, никогда не станут общими и перемелют заодно с их зерном еще и их, аульчан, вскладчину собранные деньги, и тогда никто из них уже и не посмеет вспомнить вслух о его долге — хотя бы из боязни самому оказаться в должниках: цены-то за помол, поди, только он, Барысби, и устанавливает.
Таков был его план, о котором теперь знал еще и Одинокий, и поначалу все шло гладко, и даже дождь зарядил как раз на десятый день — последний срок, отмеренный Барысби для сбора плодов их алчности — алчности бедняков, которым пообещали, что спустя год они станут — не богаче, нет, но — вчетверть меньше бедными. А когда ударил первый гром, бельгийцы были уже тут как тут, и Барысби сказал им: действуйте. И когда пришел час запалить шнур, они предложили сделать это ему самому, но, сдается мне, он отказался: как бы то ни было, а ведь скала принадлежала ему ничуть не меньше, чем остальным аульчанам. А потом они спрятались в укрытии и наблюдали за скалой и дождем, а один из бельгийцев все поглядывал на ладонь, где лежала круглая стеклянная машинка и стрелкой считала минуты. А потом они заметили дедову кобылу и дедову повозку, и дедова сына с чужаком, и бельгиец, умевший видеть по стрелке время, закричал во всю глотку и закрыл предплечьем глаза, и тогда они услышали гром, а все, что было потом, видел уже только сам Барысби, потому что другой бельгиец уткнулся лбом в камень и судорожно вздрагивал, словно кто-то царапал его под ребрами острыми когтями. А потом они оба исчезли в дожде, и Барысби остался один, и смотрел, как карабкается по горе мой отец. А потом были поиски тела, и Барысби не проронил ни слова, но по глазам Одинокого понял, что тот не верит, и тогда пошел в дом, взял ружье и последовал за ним на кладбище, но так и не осилил его пристрелить, а когда мгновение было упущено, понял, что не сумеет его пристрелить ни завтра, ни потом, что не сумеет этого никогда. Затем он строил мельницу и ждал. И Одинокий ждал тоже. А как впервые пустили на пробу жернова, Одинокий сошел с нихаса, приблизился к нему, отвел в сторонку и сказал: «Славная получилась мельница. Главное, что для всех бесплатная. Верно?» И тот смолчал. А Одинокий кивнул и продолжил: «Для начала вернешь им деньги. Те, что еще не растратил. Объяснишь, что в несчастье о выгоде не пекутся» И тот скривил губы в сомнении: «Будет трудно».— «Трудно, но ты совладаешь,— сказал Одинокий.— Тем более что дашь им мельника лет на семь вперед. Сын-то твой, небось не из пацанов, так что и он совладает». А Барысби стиснул зубы и долго не отвечал, а потом спросил: «И что же будет взамен?» И тот сказал: «Взамен будет год, и в этот год тебя никто не убьет». И Барысби спросил снова: «Где он?» — и, конечно, имел в виду моего отца. «В крепости,— ответил Одинокий.— Он будет там ровно столько, сколько нужно тебе для того, чтобы справить по Ханджери поминальную годовщину».— «А после? Куда он денется после?» — спросил Барысби и, конечно, опять имел в виду моего отца. «Не он,— сказал Одинокий.— Не он, а ты. Но то уж твое дело». А Барысби еще зачем-то сказал: «Стало быть, сын мой мельником будет».— «Или сыном убийцы. Убийцы и вора»,— сказал Одинокий.
Такой вот вышел у них разговор. И до поры до времени каждый из них свое слово держал: семья Барысби дала аулу мельника и вернула те деньги, что еще не успела истратить, а Одинокий отправился к леднику и малевал на холсте гром, борясь со смутой в душе и изводя смуту красками. И, наверно, тогда же, в горах, высоко-высоко, в полувздохе от поднебесья, повстречал несчастную дуреху Рахимат, дочь сухорукого Гаппо, ту, что наши из жалости даже смехом обычно не удостаивали, словно из почтения к святой бедой распростертой пред ними глупости, насчитывавшей вот уже три с лишком десятка лет, в течение которых довелось им наблюдать сперва уродливого глазами младенца, потом — полунемого ребенка со скрюченными еще внутриутробной болью ручонками, потом — девчонку с тугими косичками, никогда не прыгавшими на ветру, и незнакомой с мыслью улыбкой, а потом — и девушку, унаследовавшую и уродливые безумием, черные своей непрозрачностью глаза, и сведенные судорогой руки, и тяжелые, безжизненные косы, и огрубевшую с годами, прочно осевшую на покоренном лице улыбку, при виде которой даже женщины поскорее прочь отводили свой взгляд,— так же, как отводили его от огромной и сочной груди, вздымавшейся тупой, круглой, слепой плотью из-под темной ткани одежды. И если в улыбке ее да теплых безвольем глазах чудилась нашим неизбывная, глупостью запечатанная на весь отпущенный судьбою ей срок невинность, то зрелая грудь Рахимат казалась им чудовищным оскорблением и этой невинности, и памяти той, что родила Гаппо дочь и перестала быть женой и матерью на следующий день после того, как ребенок явился на свет: она умерла под утро, говорил мне отец, а молоко все струилось по телу, будто тихая и белая кровь, и наши женщины вытирали его белой пеленкой. Сам я, конечно, не видел, говорил отец, я тогда еще и говорить-то не выучился, но так рассказывали. Старуха Гаппо ребенка сама выходила. У них в то время буйволица была. Так что и не сосчитаешь сразу, сколько у Рахимат матерей да какая из них самая настоящая, говорил отец, а уж на кого она похожа была — одним богам известно. Гаппо по молодости охотник был, да еще такой заядлый, что и зимой до Стеклянной горы добирался. Там себе руку и попортил: кабан его по плечу полоснул, вот и застудил себе кровь, на морозе, а рука и высохла. Потом он, правда, снова охотой баловался, по недолго, остепенился будто, однако лет шесть ни к кому не сватался, хотя уже и возраст вроде подпирал. Видать, увечья своего стеснялся. А потом женился и будто бы даже тверже по земле ходить начал. Но детей у них еще лет восемь не было, только, прости меня Боже, лучше б уж и не было никогда. Да, говорил отец, прости меня Боже за такие слова. А наши после ее смерти напридумывали всякое, что и повторять не хочется. Будто бы страх в нем от того кабана так крепко засел, что и ребенку передался, оттого, мол, и глаз у нее дикий, и кисти на сторону свело. Только я, говорил отец, в глупости такие не верю. Откуда ж у нее тогда улыбка эта взялась? Да и кто прознает, что там у богов на уме!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу