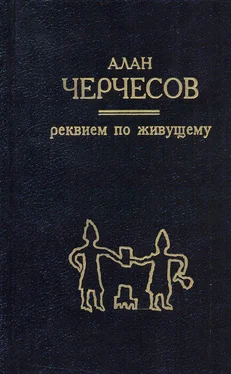А тот, Одинокий, скажет мне через двадцать с лишним лет: «Я просчитался. Я думал, у меня в запасе неделя. А после уж поздно было... В общем, опять дурацкая, нелепая случайность...» Я и сам так решу, но минут годы, и я пойму, что — ничего подобного, и три случайности подряд — это совсем уже не случай. Скорее это три улики одной закономерности, три отпечатка с одной могучей руки или три четких следа, проложившие судьбе нашей петляющую тропу в ее неизбежность. И когда я пойму для себя, что это такое — три случайности подряд, я стану размышлять о том, какой тогда смысл может скрываться за двумя событиями, если они тоже — подряд и тоже — случайности. И приду к выводу, что смыслом этим может быть что угодно, только цена его будет всегда одна — сомнение. И тут я пойму наконец, что такое любая первая, нерасплодившаяся еще случайность и чем же она бывает беременна. И я назову это «предостережением», и сразу вычислю, что в той давней истории было предостережением, что — сомнением, а что — уликой, и все три события — пожар в доме лавочника, перенос суда и разговор о динамите — вынудят меня забыть теперь о случайностях и искать причины.
И одну из них я найду в смятении Одинокого, хоть он о нем смолчит и даже намека не выкажет, что растерялся, что в общем-то по-мальчишески ошалел, когда прознал о пожаре и гибели лавочника, потому как лихой его и красивый замысел вдруг жирно обагрился кровью да нагноился уродством страдающей женщины, от которой — я сам это видел — только и осталось, что два пронзительных синих озерца на обгоревшем лице да вечный, в трауре, позор. И, конечно, Одинокому крепко сделалось не по себе, ведь он впервые столкнулся с предостережением, а что такое судьба — прежде особо и не задумывался, полагал, что для него она уже себя исчерпала, уже выдохлась — тогда еще, когда сгубила девчонку, влюбила его в ее тень и спьяну заставила покорять убивший ее утес. Он думал, что с судьбой уже рассчитался, и в подтверждение спалил в доме лавочника проданную картину. А потом он снова сделался свободным — и даже еще свободнее, чем когда украл ворованного коня или когда спугнул незаряженным ружьем вернувшегося за ним отцова брата, чтобы навесить затем новую цепь над очагом и оживить его чистым огнем. Он сделался еще свободнее, потому что потерял — и уже навсегда — все, кроме заматеревшего в беспробудной тоске одиночества.
Но тогда он не ведал о том, что могут сотворить на пару его свобода и одиночество. А когда он ощутил это, споткнувшись о первую случайность, я думаю, он ужаснулся. Мне кажется, он ужаснулся и потому смешался, и в горном непорочном воздухе ловил ноздрями несуществующий, нездешний дым. И чтобы перебить его, хотел спешить, но не решался. Да, теперь он мог и устраниться. Явиться в крепость, отыскать судью и повиниться. И поступить так ему было проще простого. Все равно что вовремя соскочить на обочину и мимо себя пропустить бегущую в пропасть повозку. Однако этого он не сделал. Он предпочел остаться во всей этой истории, несмотря на то, что сложилась она не так, как он задумал. Совсем даже не так. Ведь теперь, после гибели лавочника, было попросту некому вызволить из острога отца, вызволить ровно год спустя и доказать еще при этом полную его невиновность. А потому приходили на ум Одинокому самые разные мысли, но никакая из них по-настоящему его не устраивала, ибо соль задумки его в том как раз и состояла, чтобы сопрячь — день в день — время и исчезнувший мешок с ворованной скобяной утварью. Но тут вот и выяснилось, что найти тот мешок было сейчас не легче, чем воскресить самого лавочника или добиться признания от женщины, замолчавшей на двадцать с лишним лет. Но и отыскать мешок было в общем всего только полдела. Надобно было еще доказать, что это именно та утварь, а не другая. И даже справься он с этой задачей — как же теперь сопрягать с незадавшимся воровством строго в год отмеренное время? Ведь дата суда была уже названа, и он, Одинокий, без лавочника ничего тут поделать не мог: некому было писать в суд ходатайства, великодушно прося об отсрочке на правах пострадавшего христианина, что по-прежнему верует в силу добра и не желает брать греха на душу, отправляя неразумного туземца на каторгу. Стало быть, время почти на целый год вперед сделалось неподвластным замыслу Одинокого, и все, чего он мог теперь добиться, это ухватиться за самый кончик его, приехать загодя в крепость и повиниться.
Однако ж он упрямо ждал суда, а значит, все еще надеялся спасти свой замысел и укротить терпением такое непокладистое время. Тут только, думаю, он и ощутил в полной мере тяжелую, неспокойную силу своей свободы, да так с ней тогда и не справился.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу