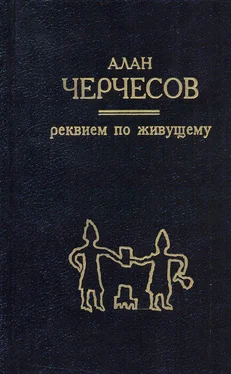Алан Черчесов - Реквием по живущему
Здесь есть возможность читать онлайн «Алан Черчесов - Реквием по живущему» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1995, ISBN: 1995, Издательство: Издательство имени Сабашниковых, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Реквием по живущему
- Автор:
- Издательство:Издательство имени Сабашниковых
- Жанр:
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-8242-0037-0
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Реквием по живущему: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Реквием по живущему»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Реквием по живущему — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Реквием по живущему», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Он почувствует на губах вкус воды и увидит беспалую руку на своем плече. «Вот откачаю тебя, дурака, а ночью, что ж, опять душиться полезешь?» — спросит Лопоухий, и отец поскорее опустит веки и начнет тщательно — слово за словом — переводить себе для верности на осетинский, отстраняясь от широкой его улыбки своим родным и нечутким к таким речам языком. Потом он с неохотой признается себе, что ненависти к Лопоухому в нем все равно больше нет. Есть безразличие — к нему, к ним всем и к грубому их, животному хохоту. Отныне, среди этих людей, готовых забить человека до смерти, в нем появится осторожность, которая принудит его действовать и говорить с опаской и впопад.
Но не потому, что он познает бесценность собственной жизни или шибко испугается. Постепенно, утро за утром, в нем будет расти и крепнуть ощущение своей предназначенности для какого-то смутного пока еще, но несомненно главного, высшего дела, ради которого стоило и терпеть, и напряженно размышлять ночами. Дело это будет так важно и ответственно, что он, боясь, как бы его не сглазить или чего не упустить, уговорится сам с собой обдумывать его спокойно, не спеша, подбираясь к самой сути с разных и совсем поначалу неясных сторон. Он приучит себя к постепенности, к медленному погружению в расплывчатые очертания тайны, к вживанию в нее и к вызревающей в нем, уверенной мудрости. Эта вот мудрость да ощущение предназначенности помогут ему бороться с накатывающими (всегда одинаково, знойным жаром откуда-то из под желудка) приступами отчаяния.
Со временем он узнает по сплетням кое-какие подробности.
Он узнает, что лавочник, по рассказам оправившейся, но навсегда изуродованной огнем женщины, заявился пьяный к ней в дом, заставил следовать за ним в лавку, а там привязал ее к стулу против занавешенной стены, потом сорвал тряпку и показал какую-то картину (на расспросы о том, что на ней было изображено, женщина только мотала головой, закрывала глаза и принималась густо подвывать, потом впадала в истерику). Когда она опускала взгляд, он вынуждал ее оплеухами глядеть на стену, на ужасную ту, дьявольскую картину, а сам все пил и пил. Под вечер он запалил свечи и выстроил их в ряд под холстом, чтобы было хорошо видно. Когда утомленный своими трудами лавочник погружался в сон, женщина могла передохнуть от пытки и не глядеть на картину, прибитую к стене по углам обычными гвоздями. Картина была без рамки. Выбраться из комнаты женщина также не имела возможности: спящий лавочник сидел у самой двери и от малейшего шороха — стоило ей зашуршать по полу ногами — тут же вскидывал брови, и все начиналось сызнова. К ночи лавочник стал бредить. Ему все казалось, что кто-то его преследует. Тогда ту дверь, что вела в подсобку, он запер на ключ, а на наружную навесил засов. Ему все не хватало света, и он решил зажечь еще и лампу, хотя, по словам женщины, там и без того горело с десяток свечей. Тем не менее лавочник, объяснив с кривой усмешкой, что сидеть им тут вдвоем ночь напролет, принялся до краев заправлять лампу керосином, при этом довольно много пролил на пол. От лужицы шел едкий дух, но убрать ее он не потрудился. Это его и сгубило. На рассвете женщина услышала душераздирающий вопль и очнулась от дремоты. Лавочник, как видно, во сне соскользнул со своего стула, задел лампу и свалился ничком в керосиновую лужу. Он метался по комнате, как громадный живой факел, и у него горели грудь и лицо. Женщина орала что есть мочи и скакала на стуле прочь всякий раз, как ослепший лавочник наугад бросался к ней за помощью. Потом он упал без чувств спиной на пылающий пол, а женщина, визжа от боли и обжигая пятки, подобралась на стуле к двери и попыталась вытащить зубами засов. Картина тоже уже занялась и полыхала у нее над головой, роняя ей на волосы капли огня. Через считанные секунды загорелась и дверь. В какой момент и как ей поддалась щеколда, женщина не помнила, сбежавшиеся на крики соседи, по сути, в этом ей ничуть не помогли: попросту не успели. Они увидели, как вываливается на ступени горящий ком и катится им под ноги. В то утро мало кто из них верил, что она выживет. «Дьявол ее попутал, дьявол и отомстил»,— шептались люди меж собой, укоряя не слишком соблюдавшую траур вдову за сожительство с лавочником и набожно, удовлетворенно крестясь. (Спустя двадцать пять лет я совершу то, чего так и не осмелится совершить мой отец, и, оставив его с повозкой на крепостной площади досматривать цирковое представление, ради которого по моей просьбе мы задержимся в крепости после того, как уладим на базаре дела, сошлюсь на боль в животе и выберусь из толпы, чтобы стремглав помчаться на ту единственную улочку, которую он, отец, будет старательно объезжать вот уже почти два десятилетия, с тех пор как вновь обретет свободу и возможность выбирать дорогу; когда я добегу до нее, мне даже не придется выспрашивать у прохожих, где тут «ведьмин дом»; я разгляжу его сразу, как будто потерял его только вчера в своем громком детстве и теперь легко и быстро нашел по памяти; я буду впивать его глазами, и сердце восторженно, трепещущей от страха птицей, будет биться мне в грудь; я разгляжу подпалины по левой стене, примыкающей к распятому в жидком воздухе остову сгоревшего дома, который так и не удосужатся схоронить за все эти долгие годы: она выкупит эту землю и запретит его трогать даже местным властям, а те, пару раз увидав ее руки без перчаток, не станут связываться и будут отделываться лишь вялыми предупреждениями; я увижу, как дрогнет палевая занавеска на окне, и почую, как коченеют мои члены, потом в окне появится рука в перчатке и поманит меня пальцем к себе; но в этот раз я убегу; мне понадобится еще с полгода, прежде чем я осознаю, что ночные кошмары хуже любого из возможных дневных испытаний — хотя бы тем, что никогда не кончатся,— и когда я снова приду к ее дому, теперь уж чуть ли не с облегчением сам отворю калитку, миную палисадник и постучусь в ее незапертую дверь; я услышу: «Войди», и повинуюсь потухшему голосу, давным-давно рассорившемуся с речью; она будет сидеть на застеленном белым топчане в черном платье с черной вуалью и в черных перчатках, и я подумаю: как грач на снегу; она скажет: «Присядь на стул, если хочешь. Только ты ведь не сядешь, верно?»; и я останусь стоять, и тогда она скажет: «Похож. Я тебя еще в прошлый раз признала», потом к нам придет тишина и лениво уляжется на крашеный пол между нами, а я все буду ждать чего-то и скрипеть половицами, и наконец она тихо и ровно произнесет: «Я ведь тогда уже знала, что твой отец невиновен. Этот-то, лавочник, при мне сел писать, целую кипу бумаги извел. Там он все-все объяснил, словно конец свой предчувствовал. Потом сунул мне под нос, но читать запретил и сразу в свой несгораемый шкаф положил. Ну а я выкрала — как раз накануне... Сейчас покажу. Тебе — первому»; она встанет и на негнущихся, увечных ногах своих заковыляет к кровати, поднимет перину, достанет тряпичный сверток и протянет мне: «Бери. Читать-то хоть выучен? А хочешь, так и отцу отдай. Так-то, может, лучше всего будет. Мне, как видно, больше уж ждать нечего, да и он давно свое отсидел».— «Не свое»,— резко поправлю я и все же уныло подумаю, что не могу ее ненавидеть, хоть нам обоим того и очень хочется. Она немного помолчит, и по тому, как она будет молчать, я решу, что она улыбается и что улыбка эта недобрая. «Ну так что ж? — с вызовом спросит она.— По мне — так свое, тем более что я ему, выходит, те годы и назначила. Зато у него время было своей шкурой понять, что такое мука и каково это — с грехом жить. И потом, он всегда при нас третьим был, да больно уж хотел чистеньким остаться, а меня хуже последней подзаборной твари презирал, так глядел всегда, будто зрачками в дегте мазал. А сам-то, сам-то, поди, по ночам лавочнику завидовал, зубами, поди, скрежетал!.. Так поделом ему! А коли не скрежетал — тем паче поделом!..» Она грубо сунет мне сверток, пихнув им меня в грудь, тяжело опустится на топчан и с минуту будет переводить дух. Потом в досаде заломит руки и раздраженно заговорит: «Да нет же! Вру. Не потому я это все... То есть поначалу-то я нисколько и не сомневалась, что снесу бумаги в острог, или в суд, иль куда там еще положено... Я-то, как погорела, уже в больнице знала, что он ни по что ко мне не придет — ну, то есть, не пришел бы, окажись он вдруг на свободе, по моей милости окажись...— испачкаться побоится, но думала про себя: чего ж ему еще страдать, и без него уже настрадано — до позора безмерного настрадано, до двух смертей от него да вот еще,— она вскинет руки, будто плеснет в лицо горсть воды,— до гнусного, позорного уродства. То, что уродом стану, я, конечно, с первых дней, с больничной койки знала. Но потом, где-то месяц спустя уже, уговорила их все ж таки зеркало мне поднести... С той поры и пошло! Сперва со злости загадывать на зеркале порешила: вот, говорю себе, коли через неделю со щеки у меня эта блямба сойдет или ну хоть на ресничку уменьшится — тогда-то и отдам бумаги, вызволю его из тюрьмы, но не раньше! А коли нет — что ж, милый, значит обождать тебе придется... Потом, нарыдавшись до колик, до пустоты в груди, призналась себе, что ведь без толку это все, что меня уж сам черт красивей не сделает и рубцы мои не сотрет. Только гадание то уже в привычку вошло. Загадаешь, а после мысленно с отцом твоим разговариваешь; по-разному у нас получается: когда он вроде тебя и утешит, а когда и наоборот, ты сама его припугнешь, мол, плохо ты там стараешься, плохо за ожоги мои переживаешь, если они ни на чуть меньше не делаются, а раз так — не видать тебе свободы! Бывало, одумаешься, сглотнешь со слезами беспутную злость свою, но потом опять взбеленишься, а невиновность его снова тебе все равно как поперек горла встанет. Как-то я там травилась даже. Склянку какую-то стащила — побольше выбирала, чтоб, значит, наверняка, — оказалось — зеленка. Выпила вею до капельки, залпом, да только все впустую. А когда в чувство меня привели, такая слабость напала, такая муторная лень, что поняла я тогда: нет ничего труднее да хлопотливее, чем раннюю смерть призывать, если у тебя на роду ради вечных мук жить написано. А потом вдруг сразу как осенило: никогда ты его не выпустишь! Оттого не выпустишь, что вмиг над ним власть утратишь, что навсегда потеряешь его, даже и мысли свои о нем потеряешь — о нем — утешающем да страдающем за раны твои. Пока он в тюрьме сидит, у него хотя б в надежде твоей, в твоем сердце словно бы выбор есть: явиться к тебе — путь на минутку, на один лишь взгляд, пусть на одно рукопожатие, неужто ж просто руки коснуться нельзя? неужто ж так-то и противно? — или вернуться в проклятые и правильные годы свои, так и не попрощавшись, не простив тебе грехов твоих,— будто бы я перед ним согрешила, а не перед Богом да мужем своим!.. Со временем я и кое-что другое поняла: покамест у меня бумаги, пока могу я судьбу его перелистать да подержать в руках, словно какой-то медный грош, покуда он в остроге в ворах числится,— только тут я и могу выучиться ненавидеть вровень с ним, ну а когда мы квиты сделаемся, тут его и отпущу за ненадобностью, как облезлого воробья из клетки!.. Но только здесь я малость просчиталась: равнодушие, а не ненависть — вот что в конце концов настоялось в обозленной душе моей, и все эти годы сторожил его, мое равнодушие, один лишь неострый, дюже спокойный, сонный какой-то интерес — придет иль нет? А когда тебя под окнами увидала, поняла, что теперь уж только ждать... Деньги я не трогала»,— внезапно добавит она и, замолчав, найдет перчатками свои колени и усмирит на них руки. «Какие деньги?» — спрошу я. «Те, что он ему за работу и год тюрьмы положил. Он-то, лавочник, думал, все в год уместится. Деньги там, вместе с бумагами». Я кивну, и она отвернется, будто застыдившись своего лица, которое и без того будет надежно сокрыто под мелкой сеткой вуали. «А Одинокий? — снова задам я вопрос.— Он тоже не появлялся?» — «Он-то был. Все выспрашивал, где мешок спрятан. Но ему я ничего не сказала. Говорю же — ты первый. А теперь иди». И я двинусь к двери, но что-то меня остановит. «Покажи. Пожалуйста, покажи мне его»,— попрошу я. «Что? — немного испуганно спросит она. «Твое лицо». Я замечу, как вздрогнет ее стан, и тело вытянется в тугую черную струну. Потом она скажет круглым, как опухоль, голосом: «Ты в самом деле этого хочешь?» — «Да»,— отвечу я и почувствую, что не вру. Робким, затравленным движением она поднесет задумчивую руку к вуали, замрет, коснувшись кружевной каймы, и резко сорвет вуаль с лица. Я не отпряну. Я буду глядеть в него, стараясь запомнить несчастное, чудовищное его уродство и постичь нетленную, глубинную, не покоренную пламенем тайну разверстой предо мной синевы. Перед уходом я скажу: «Нет, ты не ведьма». И в спину мне полетит взволнованно: «Ты первый... Спасибо! Пусть он...» Но дальше я не расслышу. Голос срежется, стыдливо захлопнется дверь, я выйду за калитку и пойду медленным шагом по улице. Я забреду на базар и долго, бесцельно буду ходить по торговым рядам, пока не увижу чахоточного человечка, понуро сидящего на табурете перед пустым холстом, натянутым на подрамник. Он вскинет влажные глаза, приценится ко мне, раздумает вставать, однако все же повторит заученно куцый свой призыв: «Изображаем, портретируем, бессмертно запечатлеваем! Волшебство кисти, верность глаза, вдохновенье красок — и никакого мошенничества! Мгновенье превращаем в вечность! Быстро, четко, аккуратно!.. И совсем не дорого,— он облизнет потрескавшиеся губы и глухо закончит: — Дешево даже. Куда уж дешевле...» Он клокотнет горлом, закашляется и побагровеет. Мы помолчим. Потом я спрошу: «Сколько?» А когда он ответит, я размотаю сверток, пересчитаю ассигнации, отделю несколько, от общей пачки и кивну: «Это задаток. Мне нужен „ведьмин дом». Изобрази его. Увековечь. Как закончишь, получишь еще столько же. Да и сама картина при тебе останется. Я заберу ее позже, когда ты скажешь мне, что хозяйка дома мертва. Чем дольше она проживет, тем больше я заплачу тебе сверху. Ну как, согласен?» Он станет липко, с голодной благодарностью трясти мне руки и заикаться от привалившей удачи. Мы распрощаемся, но уже на другом конце ряда, запыхавшись, он догонит меня, тронет за плечо, потом будет долго, запутанно кашлять и наконец вымолвит: «Как я тебя найду? Ты не сказал».— «Ничего, — отвечу я. — Запомни сегодняшнее число. Я буду бывать в этот день здесь каждое лето». Тогда еще я и сам не буду толком знать, зачем я это делаю, но на душе у меня станет звонко и как-то густо и нескомканно — как в церкви, куда я войду через четыре года, уже двадцатилетним, чтобы заказать по почившей молебен, а после отправиться на кладбище, накупить на оставшиеся деньги белых, чистых цветов и обснежить ими сиротливую могилку у железной ограды. На этот снег из лепестков я уложу сверху маленький букет бумажных фиалок. Картину я возьму без рамы, одним холстом. По дороге домой на первом же ночном привале я разведу костер и только теперь примусь ее внимательно разглядывать. Потом я решу дождаться утра, чтобы проверить при солнечном свете. Только и он не поможет. Картина будет плоха. Она будет слишком похожа на куцего человечка. Ее должен был рисовать Одинокий, подумаю я. А этот... Этот изобразил, но не понял. Да и не мог он понять или увековечить... Я раздую угли и брошу холст в костер — чтобы не пачкал мне память. Я только пожалею, что не пустил все деньги на цветы. А впрочем, подумаю я, ты хотя бы подсобил чахоточному больному уверовать в то, что он художник, а это не самое дурное дело. Дома я скажу отцу, что она умерла, и он пожмет плечами, только крепко зубы сожмет. «Ее там ведьмой звали»,— скажу я, а он снова плечами пожмет и быстро выйдет во двор. Потом вернется и скажет: «Я ее так не звал. Я звал ее падшей женщиной». И я подумаю: так ему, видно, легче около правды ходить. До сих пор. И подумаю, что не ошибся, когда смолчал про бумаги, про деньги и про нашу с ней встречу, потому как права не имел осквернять его боль — ни отчаявшейся местью когда-то любимой им женщины, ни запоздалым, щедрым откупом несчастного ее любовника, ни моим собственным знанием о них, которое в чем-то — я это почувствую сразу, тогда еще, когда миную ее калитку, а она будет глядеть сквозь слезы мне вслед, прощаясь с призраком того, кого на годы возжелала и возненавидела; кого удерживала годы мстительной мыслью для своих тесных, томительных, одиноких ночей, пряча под мягкой периной письменное свидетельство искалеченного ею и искалечившего ее саму человека; кого никогда не согласилась бы простить, но все же простила, стоило его призраку явиться к ней, услыхать всю правду и попросить ее, женщину, открыть изуродованное лицо,— в чем-то оно мешало мне оставаться сыном, а ему — отцом. И я послушно скажу: «Конечно. Конечно, отец. Ты не мог ее звать иначе...» А может, подумаю я, так ему проще было любить нашу мать. Проще выжить и стать отцом, чтобы когда-нибудь потом, застудив легкие и чудом выкарабкавшись с того света, выйти однажды шаткой поступью за порог под скупое весеннее солнце и пересказать свою душу трепетно внимающему сыну. Может, подумаю я, то был единственный способ не дать умереть всей этой истории. Чтобы поведать ее, ему нужен был сын, а для его рождения нужна была моя мать. У падших женщин, пойму я наконец то, что было ясно ему с самого начала, — у падших женщин сыновей не бывает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Реквием по живущему»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Реквием по живущему» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Реквием по живущему» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.