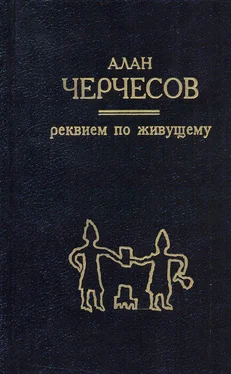А когда он снова переступает порог лавки, за самой дверью с обеих сторон на него наваливаются два здоровенных жандарма. Потея, они заламывают ему за спину руки, и он с отвращением думает о том, что эти двое с вечера объелись черемши. Пока длится их глупая, неловкая, какая-то совсем уж излишняя, невсамделишная возня, отец почти не оказывает сопротивления и только старается оградить себя от зряшной боли. Лавочник стоит, оперевшись поясницей о стойку, и возбужденно объясняет кивающему головой городовому: «А я как проснулся, сразу пропажу углядел. Ну, думаю, шельма, не успел даже следы затереть, значит, думаю, где-то недалеко припрятал. Едва его за покупками отослал, как сам в момент за вами, через окно в подсобке вылез и — задами, задами, чтоб поскорей...» — «Вот это правильно, расторопно,— баском отвечает тот окающим говорком.— Ты где ж это, мерзавец, воровству выучился? Ничего, ничего, мы т-те враз перевоспитаем...» — «Только без рукоприкладства. Тут я настаиваю,— говорит лавочник.— Я-то его покуда не увольнял. Может, покается да расскажет, а после я его опять до торговли допущу. А посему — настаиваю, чтоб без драки, а то ведь он из вора — да в убийцы... У них, у туземцев, побоев страсть как не любят...»
А перед тем, как отца вытолкают добродушными, тупыми пинками на улицу, вешают ему за спину хурджин с им же купленной у бакалейщика мукой, солью и пряностями: «У надзирателя в остроге на жратву обменяешь. Иди-иди, разбойник!»
В общем, ясности этот его поступок отцу не добавляет, и конечно, совсем уж ему невдомек, что под вечер лавочник, изрядно напившись сивухи, вскарабкается верхом на лошадь и отправится вон из крепости, чтобы в сумерках отыскать припрятанный в можжевельнике мешок, перевезти его к себе в сарай, сунуть в самый темный угол и заложить его разной утварью да тряпичной дрянью. Потом он прикончит бутыль, поднимется на ноги и побредет, сопя и сплевывая, к соседскому дому.
Женщина услышит хруст в палисаднике и звук упавшего навзничь тела. Ей придется тащить его, ухватив за подмышки, через ступени, сени и прихожую до самой кровати, а там, выбившись из сил, она сдастся и в конце концов откажется от потуг уложить его в постель, оставит его досыпать рядом с собой на половике и долго будет ругать его свинцовыми, угрюмыми мужскими проклятьями, а потом вздремнет, перемогая его храп, но скоро очнется под грубыми его и неистовыми руками, и он вонзится гневной болью в ее беспомощную, противящуюся плоть и примется терзать ее до горького изнеможения, до полного истощения мстительного своего, завороженного борьбою терпения, а потом захрипит горлом, и его тот же вырвет на скачущий под глазами пол, а она, обливаясь ненавистью и слезами, будет до самых светлеющих окон устало молотить его кулаками по спине и обзывать последними словами...
И невдомек отцу, что Одинокий не только обмануть способен, но и — обмануться, невдомек, что тому вдруг может не покориться случай, а вся его задумка рухнет, как обгоревшие стропила в доме лавочника.
...Пожар случится на десятый день. Из затянутого решеткой квадрата в стене камеры (зловонного помещения на две дюжины нар с загаженной штукатуркой и постоянным ощущением присутствия здесь упрямой, сиротливой ярости) заключенные весело будут наблюдать за клубящимся на сером осеннем просторе черновато-коричневым дымом, перекидываясь злорадными шутками и гадая, что это там горит. К обеду вместе с похлебкой надзиратель принесет им весть: скобяная лавка. Хозяин погиб, баба его обгорела, но будто бы дышит еще. «Так давай ее к нам, коли дышит!.. Я горячих баб люблю»,— скажет лопоухий и длинный, под потолок, бывший солдат, арестованный за членовредительство (на четвертый год службы «с тоски» он оттяпал себе топором три пальца на правой руке и прежде еще, чем дошагал до лазарета, был сдан поручику подглядевшим его за преступным занятием взводным старшиной).
Тогда отец стерпит их смех. Он его попросту не расслышит. Он пролежит на нарах с открытыми глазами до самого вечера. Потом он дождется кормежки и попытается есть, но не справится с миской баланды и коркой холодного черного хлеба. Он пролежит на нарах весь остаток дня, а когда увидит в окно круглую и полную луну, очнется, встанет, тихо пройдет по комнате к нарам шутившего солдата, упрется коленом в дощатое ребро его постели и вцепится пальцами в толстый небритый кадык.
Задушить его отец не сможет. Его самого будут бить долго, добросовестно, мрачно и жестоко. Он навсегда запомнит грязный каменный пол, залитый почти до дверей черным блеском от его собственной крови, запомнит и несколько десятков измазанных ею и обступивших его распростертое, изувеченное тело ног. Потом его унесут, и по дороге, в гулком тюремном коридоре, память блаженно прервется и возвратится к нему лишь день спустя в студеном и узком карцере, воняющем плесенью со стен. Еще через день его отведут с завязанными руками к начальнику тюрьмы — бледному, лоснящемуся, похожему на ноготь человечку,— и тот скажет ему сиплым голосом, покашливая в щуплый кулак: «Будет тебе урок. Еще — кху—кху! — спасибо должен сказать, что к делу не присовокупили, что решили по доброте душевной тебя карцером поучить. Покушение на убийство — кху-кху! — это тебе, гаденыш, не защелки воровать!..»Там же, в кабинете, глядя, как прикованный, на позолоченный молоточек настольных часов и увлекшись зрелищем хрупкой, но неистощимой и размеренной работы неведомого механизма, он вновь потеряет сознание и обретет его уже в прежней камере, на прежних нарах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу