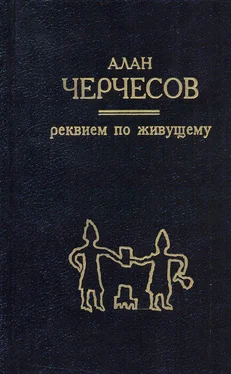Я сразу почуял недоброе, рассказывал мне отец, но только сперва значения не придал, решил — показалось, подумал, устал просто человек с дороги, и он обнял меня и сказал, что полагалось, а потом мы вошли в дом, и лавочник тоже обрадовался, даже забеспокоился отчего-то, засновал по комнате, сыпля неспелыми от неожиданности, невызревшими мыслью словами, а Одинокий старательно посмеивался и потирал ладонью лоб с набившейся в морщины черной пылью. А после, как умылся, пересказал нам аульные новости, странно, правда пересказал, будто не он это делал, а кто другой из наших земляков, то есть про то говорил, что и за новость сам бы прежде никогда не принял, потому как попросту и не запомнил бы ее. К чему, к примеру, помнить Одинокому про чью-то охромевшую кобылу или пропавшую овцу? Ну, может, помнить-то он еще и умел про такие вот мелочи, но вспоминать — это уж совсем на него не походило. И знаешь, говорил мне отец, тогда я как-то этого не понял, но на сердце тревога легла — слабая такая, негибкая тревога. Потом мы, как водится, посидели, закусили чуток и выпили. Точнее, пил Одинокий, мы с хозяином лишь пригубили, и я еще подумал: да что за дьявольщина, мол; с ним-то, поди, мы толком и не праздновали никогда, пусть столько лет в соседях числились. В тот день я, признаться, предпочел бы и покруче посидеть, но нельзя было: работа ждала, и я сказал: «Придется вам дальше без меня. Вот уж и в дверь колотят».— «Ладно,— сказал лавочник.— Иди. Перетерпи как-нибудь до вечера, а там отыграешься». А Одинокий поднялся и сказал: «Обожди-ка. Хочу, чтоб тоже видел». И взял с колен сверток, а лавочник сглотнул слюну и облизнул сухим языком губы: он-то, почитай, вмиг этот сверток узнал, ему уже доводилось встречать такой же. А когда тот развернул его перед грудью, мы увидели пылающую трещиной скалу, грязный склизкий дождь, разверстую и огромную, в полскалы, лошадиную пасть и страшные, жуткие, глубокие, ненавистные нам глаза, прострелившие жидкое небо. И поначалу мы глядели только в эту сумасшедшую, постылую синеву, потом туда, где раскрывалась сквозь нее колючая чернота, потом оторвались от глаз и забегали взглядом по холсту.
Первым спросить я изловчился: «А что это там за крючок? Что за полоска там под огнем?» — «Змея,— ответил Одинокий.— Ты же сам рассказывал». И я пожал плечами. «Что?» — спросил он. «Да так,— говорю.— Раньше у тебя вроде глаже получалось». А он ухмыльнулся и говорит: «Так то не для протеру тебе. И не для того, чтоб губы промокать». И я сказал: «Неужто эту вот живодерню людям на обозрение вешать?» — «Про это,— говорит,— мы у хозяина должны спросить». А лавочник наконец очнулся и быстро, хлопотно замотал головой: «Увольте... Нет, на стену ее, разумеется, не повесишь... И откуда ж это в тебе столько... Столько, говорю, в тебе этого... ну то есть... к тому ж опять... прямо удивительно!.. Один ведь разок только и видал, а вот поди ж ты, как изобразил. Мороз, братец, по коже... Ага. Однако для стены она, конечно, чересчур. Загнул ты, братец. Не так, чтобы очень, а все ж загнул, не обижайся. Картина у тебя того... С загибом, с вывертом картина... От нее прямо мурашки по телу. А зачем, спрашивается, клиенту твои мурашки, а? Ха-хх!.. Он же глянет на стену, а после его сюда и дармовщиной не заманишь!.. Так что не обессудь...» — «Забрать что ли?» — оборвал Одинокий и начал было ее сворачивать. «Нет-нет! зачем же так сразу — и забрать?.. Чудак. Чего тогда ее писал, а после еще и вез за тридевять земель!.. В подарок-то, небось, и вез, а? Неужто ж я не понимаю! Подарок — дело святое, его и не принять-то нельзя. Знаем-знаем, кровная обида и все такое прочее. Однако ежели ты это так, не в подарок, то ведь можно и купить! Картинка хоть и с выкрутасами, с нашлепами да с кляксами — вот! вот, гляди! Чем не клякса? Клякса и есть, и, доложу, отличная, мировая клякса! Намеренная, живая то есть, проникновеннейшая клякса! — а мне, честно скажу, поболе даже той, первой, картины нравится. Ну, не то чтоб нравится... А хоть бы и нравится!.. Надо бы и ей... Хорошо бы ей тоже показать! Как полагаете? Прекрасная, между прочим, мысль! В корень в самый мысль! Не мысль — находка!!! Прав, пра-ав ты, самородок ты наш, сейчас — скатать ее в трубу, а вечером три свечи запалить и ей показать! Самому же глядеть и досыта ее дрожь впивать! Во будет, доложу я вам...» — «Клиенты заждались»,— говорю я. Конечно, я ненавижу ту женщину. И ненавижу эту картину, и знаю, что ненавижу ее за гнусную, беспощадную, расцвеченную жирными мазками правду. И ненавижу приютившего меня человека, и мстительную трусость его, готовую подглядеть собственную подлость, дождавшись, когда она отразится ужасом в бездонной синеве. И спешу уйти отсюда, чтобы не возненавидеть того, кто вот уже два месяца был мне роднее брата родного и ближе старика-отца, кто оставался изгоем на одной с ними земле и оттого сумел познать эту землю так, что выучился творить ее по чужой памяти своими пальцами. Я ухожу, чтобы отпереть входную дверь и встать за прилавок. Изредка из подсобки до меня долетают слова (оторванные от потока брызги), по ним мне не разобрать, о чем они там говорят приглушенными и скрытничающими голосами. Да мне и не охота вслушиваться. Но пару раз лавочник сбивается на крик, и мне поневоле приходится слышать: «Ни за что! Даже для такого негодяя, как я, это слишком! И не уговаривай...» А немного позже раздается возглас: «Ну и сволочь! Всем сволочам сволочь! Вот и пусть подыхает! Тот его кончит — и прав окажется!» Потом они долго бубнят, толкаясь голосами, потом я слышу смачный плевок, и лавочник громко и отчетливо произносит: «Лихо! А год спустя — нате вам, пожалуйста! Ошибочка вышла, на складе не разглядел! Лихо придумано! Только я все одно не согласен». И голоса опять путаются в азартном полушепоте, а когда я распахиваю дверь и вновь появляюсь в подсобке, вид у обоих такой, будто они перцем поперхнулись: рты раскрыты, но кроме нестройного дыхания да шепелявых посвистов ни на что их глотки не годны, и я думаю про себя: ух ты, выходит, помешал приятелям, знать, что-то посерьезней моей дружбы художник наш сыскал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу