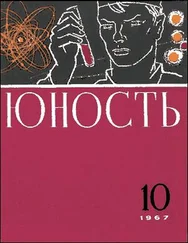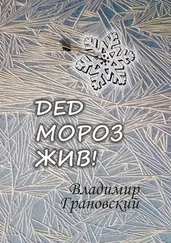— А ещё галлюцинации бывают, — вставил Калачов, — со страху.
— Что?
— Ко мне однажды гость лез по вентиляционному колодцу.
— Серьёзно что ли?
— Я был очень удивлён. Стена — в локоть толщиной, прикинь, в ней вентиляция — ну, в ладонь, не больше. Не может никто лезь! А я вот слышу— лезет, кряхтит кто-то, совсем рядом. Трезвый был. Сперва вооружился, потом прикинул — ну не может этого быть! Посветил туда...
— Опять ты всё врёшь.
— Не веришь. Ну и зря.
Калачов, кряхтя, переменил позу.
— Ты нигде, а я — везде. А по сути разницы между нами — никакой: сидим тут два дурака под одним пледом... Сходи за меня в туалет, а?.. Да нет, я понимаю тебя: я ведь не всегда бродягой был. У меня всё было: дом, работа — что там ещё? — определённость. Я был определён. Сосчитан. Определённый — с чёткими пределами, значит. И всем вокруг это было удобно — моя определённость. А я в ней сомневался: я, вишь ты, книжки читал. Писал, то есть. Не помню, что вперёд. Сучья вошь
— литература, деревянный макинтош. Она мне жизнь спасла. После того, как развалила её.
— Чай поставить?
— Я занялся практикой дзен. Я отверг предметы, полюбив их дао. Слышала такую фугу — про дао? Я полюбил процесс. Я стал манить результат, а не гоняться за ним, вылупив шары, изо дня вдень, как это делаете вы. Я начал жить. Кончились пытки, я начал жить каждую минуту! Это было классно. Я отказался от всякой респектабельности —от определённости вообще. Я бросил городить фасад и взялся чистить свою помойку.
— И что?
— Всё отлично, как видишь. Я отказался от общества
— общество отказалось от меня. Всё превосходно, всё по нулям. Никакой зависимости. Никакого страдания. Никакого, слава Богу, комфорта. Меня больше ничто не заденет, меня нечем зацепить. Нечем! Я даже от имени своего отказался! Имя — якорь, ты-то хоть меня понимаешь?
— Пожалуй, да.
— А для них это — клиника.
— Пожалуй, да.
— Я стал неопределим. Это была моя цель, и я её достиг. Вершина моей свободы — кульминация их ненависти ко мне. Я их понимаю: трудно общаться с неопределённым человеком. Потусоваться с ним — прикольно. А жить каждый день — как? Облако в штанах. Какие у облака, извините, права и обязанности? И потом, неопре-делённость пугает. Облако раздражает вьючных своим кайфом. Понимаешь, я стал делать то же самое — но с удовольствием. Я понёс свой вьюк играя — это злило несчастных: значит, ты можешь больше — но не хочешь. Не хочешь ведь? Не хочу: два вьюка — это уже алчность. Ну и пошёл на фиг! Ну и пошёл. Трудно быть богом, Арин-ка. Чуть приуныл — и ты уже просто бомж. Я бомжую, я бомжую, я постель давлю чужую... Я запретил себе унывать. Я тружусь каждую минуту, я наслаждаюсь каждую минуту, я проживаю четыре жизни враз. Я меняюсь: завтра я буду уже другой. Я думаю о Боге... Всё и все обманут и уйдут, оставив извиваться червем, — и ладно, и хорошо: твой Бог всегда с тобой. Делай для них всё, что можешь, но не отдавай им душу. Ему отдавай.
А потом меня не стало совсем. Понимаешь: я зануда, я всё довожу до конца. И себя в этой игре я довёл до конца. Я кончился — и вот тогда ко мне в вентиляцию полезли друзья. Последний час: вот я поднимаюсь на девятый этаж — пешком: ночь, лифт не работает, темно. Иду, поднимаюсь по какой-то гулкой шахте. Чужой дом, чужие звуки. И с каждым шагом мне всё тяжелее идти — но не от усталости — мне всё больше чужеет здесь. Чу-жеет. Я креплюсь. Надеюсь, что это приступ уныния, всего лишь, это уже было, надо потерпеть, перетерпеть это, — уговариваю я себя, но уже знаю, что это — конец. Чужой дом, мне туда не надо — но больше идти некуда, и я иду. Ползу. На девятом этаже голоса, там компания подростков. Все знают, что такое компания подростков в беспризорном 94-ом году. Я вынимаю из-за пазухи припасённую на этот случай дверную пружину и закладываю её в левый рукав: конец мой будет весел. Я иду прямиком сквозь них. Не помню их... затаившиеся в полумраке зверёныши... и каждый из них — Артём — мой сын и кредитор... Стекляшка дешёвого вина —одна на всех, им мало, они алчут, разозлённые непрухой, тогда как все вокруг хапают и хавают и на тачках носятся... — и тут я им прямо в лапы. Дюжина Артёмов. Я иду сквозь строй, и мне почему-то всё равно. Меня здесь нет, меня уже нет нигде. Возможно, поэтому меня и не тронули. Не знаю, мне было уже не важно. Я отпер чужую дверь чужим ключом, вошёл. Сел на белую табуретку посредине чужой кухни и... умер. Перегорел. Слишком много всего. Я стал как-то неинтересен сам себе, перестал регистрировать мысли — и они встали. Тупость. И больше ничего. Пустая оболочка безразлично сидела на табурете и по какой-то чисто механической причине не падала. Даже скомандовать повешение было некому. Пусто. И вот тут, по известному правилу, ко мне и полез этот. Помощник. Но я не обрадовался — и это был решающий момент. Я мог бы расценить вторжение как помощь — принял бы беса, тот бы занял вакансию и пошел править бал. Он мог тихо сожрать меня изнутри. Мог направить по чужому следу с пружиной в руке. Мог учинить громкую вакханалию с битьём стёкол иномарок — и я бы был застрелен владельцами, как бешеная собака, — о, с каким бы наслаждением они пустили в ход свои цацки. Или повесился бы сам... Но я не обрадовался: бес был мне чужой, видимо, так. Я загляделся на свои кулаки. Они были исправны. Я с удивлением обнаружил, как замечательно исправны мои руки и ноги! Дурню достался превосходный аппарат, а он не сумел им с толком распорядиться — бросил. Хорошо ещё, не прикончил. Это была ревизия нового командующего, новый командующий принимал парад: здоровые, уже многому научившиеся руки; здоровые, столько раз выручавшие ноги; здоровое, безотказное сердце —здорово, орлы! Свиньёй надо быть, чтобы предать такую славную компанию. Я не предам вас никогда, я буду лечить вас, кормить вовремя и заботиться о вашем отдыхе. И мои генеральские проблемы вас не коснутся.
Читать дальше