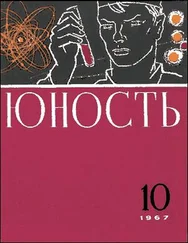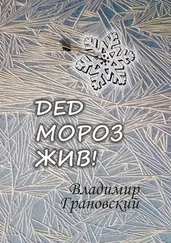Виват! Виват! Виват!
В ту ночь я спал спокойно и торжественно. Та ночь
стала для меня точкой отсчёта, личным Рождеством Христовым. Я был сир, наг и точно знал, в какой стороне Бог. Вот так мне повезло: я начал вторую жизнь, не потеряв памяти о первой... кажется.
Вот именно. Калачову не мешало бы оглянуться по сторонам. Уже давно не было рядом собеседницы. Не было кухни. Он шёл по асфальту между домов, без конца объясняясь со своею судьбой и уверяя её в своей лояльности. В самый патетический момент его нежно толкнула бампером под зад иномарка. Калачов отскочил, но не обиделся, а с колотящимся сердцем поблагодарил судьбу за дружеский знак, читаемый ясно: полно врать-то, эк тебя растащило, парень. Неопределимый ты наш, — осклабилась иномарка и поехала дальше. Только и делаешь, что определяешься, — нахмурился сам на себя Калачов и пошёл прочь от этого болтуна.
Болтун (сельск.) — неоплодотворённое куриное яйцо. Из такого, сколь ни высиживай, всё одно толку не будет.
Такая вот похмельная синкопа.
Калачов купил в ближайшем киоске банку очищенных томатов в собственном соку. Вышел с нею на безымянную набережную безымянной реки. Нашарил в торбочке нож, аккуратно вскрыл банку. Медленно, с наслаждением катая во рту каждый кусочек томатной плоти, опустошил её. Замер надолго, глядя в воду. Безымянный. Спокойный. Как вода.
В стороне на газоне молодой атлет в белом костюме играл с собакой. Их игры были суровы и одновременно сердечны. Оба рычали, с любовью глядя в глаза друг другу. «А эти москвичи — хорошие ребята, — подумал Калачов вообще. — А что с лимонадом в руке прогуливаются — так ведь жарко».
Полный любви и покоя приблизился он в назначенный час к воротам немецкого консульства — чтобы получить, наконец, свою визу и улететь.
У ворот никого не было. По команде Зигфрида с талончиком в руке он вошёл внутрь.
Сбоку стола, по-домашнему, сидела улыбчивая девица в белой блузке с чёрным галстучком и запросто раздавала паспорта с визами. Люди брали, кланялись, радостно шутили с девицей и улетали счастливые. Прямо за порогом раскидывали руки — крылья, с треском и хлопаньем взмывали в белое от летнего зноя небо и улетали клином на запад.
Калачов волнообразным движением подал паспортистке свой талончик. Та порылась у себя и сказал почти по-русски:
— Вашей визы нэтт. Может быть , в понеделник.
И она прямым коротким движением вернула талончик Калачову. Охранник властно показал рукой на дверь.
Облом.
Облом. В понедельник фестиваль уже кончится.
Облом.
Короче и точнее не скажешь. Какое ёмкое слово — “облом”. Такое ёмкое, что никто не знает его полного смысла — кроме Калачова. Что эти утлые тинейджеры, щеголяющие словцом, понимают в настоящем стопудовом ОБЛОМЕ.
Облом, облооом. Жизнь кончена.
Мыкаться по России, обживать один угол, другой, третий, пятый, двадцатый, терять счёт квартирам, терять начало, терять контакт с населением, из последних сил гордо слыть пришельцем, странником, пророком, мля, украшением страны — которой, сам знаешь, ты не нужен, непонятен потому что, ты — чужак, немец, ехай давай, там твоя родина. Что-что? Там моя родина? Какая приятная нео-жиданость. А вдруг? А вдруг моя родина — там?
Кукиш с маслом, и никаких «вдруг». Нет вообще никакой родины. Драгин прав: всё это выдумки для охламонов.
Калачов, каменея лицом, вышел за ворота не нужного больше учреждения и побрёл прочь.
И привиделся Калачову сон.
Будто идёт он прочь, убитый, волоча в пыли какую-то тряпку — может, и знамя, может, ещё что — неизвестно и неважно, и стыдно приподнять, чтобы взглянуть. Полный разгром. Лицо каменеет и обваливается кусками, конечности уже не сообщаются между собой и двигаются лишь по инерции. Разбитая армия ещё не распалась и не разбрелась по сёлам, она ещё идёт колонной, но смысл из неё уже вынут.
Что-то надо подписать — акт о капитуляции... Надо позвонить Пете Денежкину: фестиваль крякнул, билеты пропали, денежки плакали. Петя застонет. Ребята промолчат. Может, лучше утопиться?
Или не звонить, послать телеграмму из двух слов: «Облом, возвращаюсь» — а на сэкономленные деньги поесть?
Конечно, а чего. Всё уже. Накатался. Калачов почувствовал странное облегчение. Как будто бы снова умер
— но теперь по-другому: без мучений. Новая репетиция в новой трактовке: просто усоп.
И захотелось ему посмотреть, как там без него. Ну то есть, как там вообще.
Читать дальше