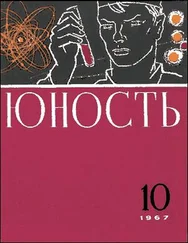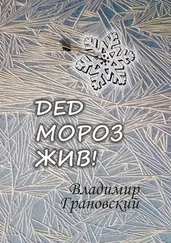— Ты прозаик.
— Сам ты прозаик, — вдруг обиделся Калачов.
Драгин озадаченно поглядел на него:
— Ну извини. — И помолчав: — А ты кто тогда?
Калачов начал злиться:
— Кто, кто. А сам ты кто?
— Я — график!
— А-а.
— Ну?
— Ну я понял: ты — график.
— А ты кто?
— Слушай, график, ты мою книгу оформлял?
— Вот я и говорю: прозаик.
— Нет, ты в неё заглядывал? Про что в ней написано?
— Дак ить...
— Дак —чо? Я не прозой занят, Костя. Проза для меня
— это... отвертка. Инструмент. Один из инструментов.
Пауза.
— Ээ, батенька, — насмешливо протянул Драгин. — С этой хохмой вы у нас в Одессе долго не протянете.
— Ну и не надо.
— Здесь всё должно быть чётко. И без интеллигентских колыханий. Я — график, ты — прозаик. А кто мешает, тому— в бубен. И сам не подставляйся. Но — привыкни к мысли — здесь, как не вертись, а пять раз на дню тебя обязательно поимеют. Это — минимум, без него ты спать не ляжешь. А будешь подставляться — тебя будут трахать непрерывно. Это Москва.
Помолчали.
— Кость, — медленно проговорил Калачов. — А зачем тебе это? Ну — такая Москва? Ты же не извращенец.
— Начина-ается. Это вот эти ковыряния интеллигентские и есть извращение. А здесь —жизнь. Реальная, без выдумок. Я вспомнил, про что твоя книжка. Так вот: всё, что ты там пишешь, — это твой сон. К жизни он не имеет никакого отношения. Сон! Ты спишь!
— Ты как Кашпировский, едрёна мать.
Костя мгновенно остыл. Плюхнулся на кровать, закинул руки. Кровать у Кости была квадратная, важная, гостеприимная. В изголовье —шнурок выключателя. Напротив — музыкальный центр, телик. По стенам: гипсовое ухо, крест из веточек, нунчаки, мишень с дротиками, «картинки», гениальные совершенно кусочки ч е г о - т о. За ухом — фото: Драгин с женой и сыном, все трое голышом — дети цветов. На стеллаже — альбомы, кассеты. Бронзовая ступка. Заячья лапа. Пресс-папье.
— Да я и сам думал уехать отсюда, — неожиданно нарушил молчание Драгин. — Но куда? Назад — скучно.
— Ты в Америку хотел, — напомнил Калачов.
— Да нет никакой Америки. — Драгин рывком поднялся, сел. Покрутил чашку. — Всё это сказки для охламонов. Налить ещё чаю?
Ну и ладно, сон —так сон.
Калачов в своём любимом сне шагал по своей любимой Москве. Лет ему в эту минуту было — где-то от пятнадцати до двадцати. И Москва была — та, прежняя, простая, без буржуазных замашек, взволнованная присутствием где-то совсем рядом некоей Генеральной сверх-личности. Неважно какой. Ею мог быть царь или генсек, ею могло быть чьё-то частное божество с косичками. В Москве хочется любить. Москва — культовый город, она создана для обожания, — и горе, если обожать становится некого. Ад — это невозможность любить. В Москве в ту пору был ад.
Но Калачов опять был хитрее всех: он спешил на свидание со своей Рыбкой. Вся Москва для него в этот день была наполнена её волнующим присутствием, и Москве это мистическое присутствие удивительно шло —она молодела, хорошела, обретала величавость столицы.В руке у пожилого юноши трепетал маленький букет фиалок.
У станции метро с чудесным названием «Новые Черёмушки» ждал автобуса народ. Прямо под ногами у народа, разбросав в разные стороны лапы, морду и хвост, дрыхнул ничейный, свой собственный пёс. Народ вяло посмеивался.
В стороне на низкой чугунной ограде сидела, устало вытянув ноги, девица секретарского вида и презрительно курила.
Калачов, сияя, безо всякой цели примостился рядом с девицей.
— Сегодня среда, — сообщил он ей. — Улетел мой самолёт на Берлин.
Он полюбовался букетом.
— И я решил, что это — судьба! Вы верите в судьбу?
Девица фыркнула и обозначила попытку встать, но,
разморённая жарой, не двинулась с места.
— Иногда приходится верить в судьбу, — развёл руками Калачов. — Одна моя знакомая порвала колготки и не пошла в ресторан. В тот же вечер в том ресторане была перестрелка. Её подруге осколок фужера попал вот сюда.
— Что же, у вашей знакомой одна пара колготов? — язвительно поинтересовалась девица, по-московски удваивая «а»: «у ваашей знаакомой...».
— Да, — беспечно махнул рукой Калачов. — И те взяла на прокат. У мамы. Скандал был...
— Что, и у мамы одна пара?
— Ага.
— Только не говорите, что они достались ей от бабушки.
Калачов расхохотался. Девица погасила окурок об ограду и кинула его в урну.
— Скучно. Съём не удался — можете идти. Букетик можете оставить.
Читать дальше