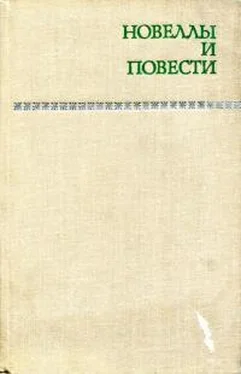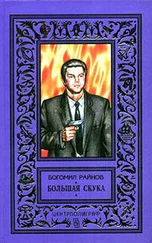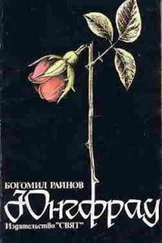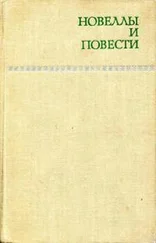В конце стола устроились друг против друга Баклажан и Каракачанка с напускной скромностью дипломатов, прошедших сквозь воду, огонь и медные трубы, но все же организовавших двустороннюю встречу на высшем уровне. Но им рано еще было почивать на лаврах. Существовала реальная опасность, что стороны станут в позу надутых индюков, что нередко случается между бедными сватами, и оба министра иностранных дел были готовы в любой момент принять меры для «разрядки напряженности».
Баклажан был тонкий психолог, к тому ж из богатой своей практики он вывел, что в подобных случаях самой благоприятной темой могут стать воспоминания военных лет. Войны издавна были второй жизнью мужиков в нашем краю, потому что только во время войны могли они выбраться за пределы села, мир повидать. Военные невзгоды и страдания стали дорогими их сердцу воспоминаниями. Это были веселые истории, настолько веселые, что даже смерть представала в них со смешной стороны. Не знаю, откуда так повелось, но для наших мужчин стало обычным смеяться над собой, подавать свои беды в веселом свете. Пожалуй, это можно было бы отнести за счет их вошедшего в пословицу невежества. Но позже, когда я, повинуясь чистому любопытству деревенского оболтуса, начал заглядывать в книги, меня страшно удивило, что классики тоже позволяют себе посмеиваться — причем не только над собой, а и над целыми народами, и даже над высочайшими особами. Похоже, в те времена люди были ужас как несовершенны, просто нашпигованы всяческими недостатками и страстями.
Итак, Баклажан пустил в ход свои военные воспоминания, хотя на войне никогда не был. Принялся он за это сразу, как только накрыли на стол, и все начали пальцами таскать из мисок.
— В такой же вот зимний вечер, — рассказывал Гочо, — темень застигла нас, помню, в одной македонской деревушке. Холодина, мать его, стоял, вспомнить страшно! Плюнешь — так, поверите, слюна об землю ледышкой стукается. Ежели, скажем, по малой нужде приспичит — на улице и не думай. В момент у тебя вроде как бы костыль появится. Деревушка, говорю, маленькая, а нас целый полк. И приткнуться негде. Ну, потом мужик один пустил нас в свой хлев. В нем — два мула. Разместились кто где смог. А я залез прямо в ясли. Сплю это я, сплю, и вот снится мне, значит, будто гонится за мной медведь. Осенью видели мы в горах здоровенного черного медведя. Вот догнала меня, понимаете, эта напасть, свалила на землю и давай меня жрать. Ну, заорал я, само собой, благим матом. Товарищи мои повскакали, тычутся в темноте: в чем дело? А вот в чем… Один из этих мулов нанюхал у меня в котомке хлеб, ну и начал ее теребить. А котомку-то я на брюхе у себя поясом притянул…
Все, как были с набитыми ртами, так и прыснули, задрав рожи к потолку, будто волки на луну. Одна только матушка моя бровью не повела, она хлопотала вокруг стола, да и не подобало ей таращиться на потолок. Нынешним вечером она чувствовала себя как на состязании по домоводству, благоприличию и скромности, на котором ей нужно было любой ценой выиграть первый приз. Казалось, на нее никто не обращал внимания. А в сущности, все исподтишка следили за каждым ее движением. Бабка была самым строгим членом жюри. Это ей предстояло вынести последнюю оценку: «Нет, какая-то она безрукая!..» или «Чего ни коснется руками, все позолотит…» Разумеется, матушка все «золотила». Недаром ведь она под строгим контролем бабушки Митрины целую неделю упражнялась наполнять миски водой (вместо кушаний) и подавать вино (опять же воду) в луженой братине.
— Меня тоже там чуть не угробило, — проговорил хозяин дома. — Пошли мы, это, цепью. Француз по нам, само собой, пальбу открыл. «Ложись!» — орет ротный. Гляжу, впереди окоп глубокий. И тесный, будто горшок. Не иначе, какой-то сморчок в нем прятался. Но Георгию выбирать не приходится. Рванулся Георгий — и бух в окоп. А тут ротный опять шумит: «Короткими перебежками отходи к высоте!..» Наших за минуту как ветром сдуло, а я все барахтаюсь в своем окопе, не могу выбраться. Потом гляжу — теперь француз в атаку прет!.. Ну, говорю себе, тут тебе, Георгий, и помирать. Успеть бы перекреститься в последний раз… А до того тесно в проклятущем окопе, что и крестного знамения не сотворить. Зажмурился я, жду, что будет. Тут, на счастье, наши открыли огонь. Француз остановился, залег. Ну, и поднялась же тут кутерьма: наши палят, француз тоже не молчит. Только к вечеру наши отогнали его. Тогда и меня из окопа вытащили. С мокрыми портками…
Дед тоже в долгу не остался. Забыв, что дело за столом происходит, он обстоятельно, со всеми подробностями поведал, как вместе с еще несколькими безвылазно проторчал целую неделю в одном окопе под Тутраканом. Румын чесал из пулемета — носа не высунешь. И пришлось им тут же, в окопе, все свои нужды справлять, а потом на лопатках наружу выбрасывать, так что пули попадали только в лопатки. На восьмой день, однако, пришлось отходить назад. Вот тут румын и полоснул из пулемета. Все полегли, один дед остался жив. А румын-то пулемету не поверил. К одному подойдет — в брюхо саблей пхнет, иного по башке стукнет. Проверял, может, затаился кто, прикидывается мертвым. У кого нервы оказались слабые — дернулись, застонали. Румын их, ясное дело, прикончил. Подошел он и к деду, шмякнул по голове, но дед ничего, даже не шелохнулся.
Читать дальше