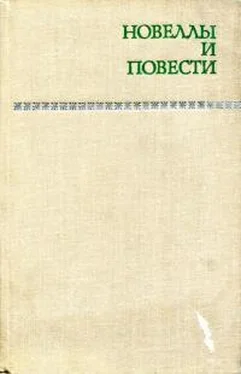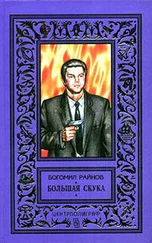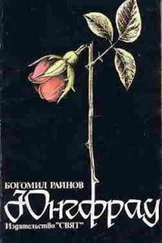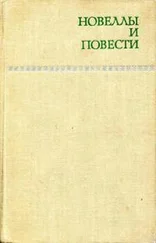И в тот момент, когда он наклонился, заглядывая за плетень, куда должен был упасть Мемед-ага, что-то со страшной силой рвануло его за руку, что-то вырвало его из седла; падая, он вцепился в могучие плечи в черной домотканой одежде и ужаснулся, увидев совсем близко ясные, синие, улыбающиеся от ярости глаза, в которые он только что стрелял.
— Зе-ки-ир! — взревел Исмаил-ага. — Зе-е-ки-и-ир! — успел он повторить, прежде чем ему зажали рот широкой, как лепешка, ладонью.
Потом его куда-то понесли, точно так, как детей, больных рожей или лихоманкой, уносит в страшных снах какое-то чудище или сам Азраил — архангел правоверных.
2
Все было отнято: и пистолет, и ятаган, и нож; множество рук ощупали его со всех сторон, чтобы найти золото, которым его подкупили гяуры, или письмо от ожившего Павла Хадживранева к друзьям в другие села.
Он не угрожал, не протестовал, не смеялся, а только ждал, когда все это кончится, чтобы вырваться отсюда к брату и собрать устинских молодцов. Вырваться из этой конюшни, куда его затащили силой, куда непрестанно входили все новые и новые помаки, куда втолкнули и прибежавшего на помощь Зекира.
— Перед бунтом Учитель и Хадживранев сын истребляли здесь моих людей, убили Дели-Асана Байман-оглу, — говорил возбужденно Мемед-ага, — а сейчас за это взялись их устинские приятели… И конь мой погиб ни за что! Стащите с него портки, — приказал он, — ищите на теле. Эй, Бичо Пехливан! Поди сюда!
В конюшню ввалился молодой помак в белой вязаной шапчонке, его толстые розовые губы улыбались, а широкие плечи вздулись буграми наподобие бычьего загривка. Шапчонка была сдвинута на затылок.
— Хватит глазеть в окна, — ласково пожурил его Мемед-ага, — не видишь разве, что мы не справляемся? Он все еще в портках!
— Как скажешь, Мемед-ага, — произнес Бичо Пехливан.
— Недоуздок с тобой?
— Куда же я без недоуздка, Мемед-ага. Сам знаешь…
— Какой еще недоуздок, — выдохнул, обливаясь потом, Исмаил-ага и отшатнулся. Это были его первые слова и первое движение с той минуты, как его внесли в конюшню.
Бичо Пехливан вытащил из-за пояса старый, лоснящийся от грязи пеньковый недоуздок.
— Вот он, видишь? Такими ослиц привязывают, — медленно, старательно объяснял Тымрышлия. — Мой Бичо, Исмаил-ага, всегда при себе его носит. Без него ни шагу. Привычка — чабан, в горах вырос, один, без бабы… Сам понимаешь… Не бойся, с тобой он не станет… Предателя полагалось бы посадить на кол, да я не султан, чтобы судить так строго. Хочу только, чтоб тебя обыскали хорошенько и чтоб ты не брыкался.
— Не знаю, смогу ли… — произнес лукаво Бичо Пехливан, почесывая в затылке, — сегодня весь день привязывал…
— А-а-а, этого ты только снаружи обыщешь… Не все тебе золото со дна выуживать! Это тебе не анатолийский дервиш мулла Тахир, у которого ты всегда мог найти махмудию [54] Махмудия — турецкая золотая монета времен султана Махмуда II.
, как бы далеко он ее с вечера ни запрятывал! Здесь перед тобой Исмаил-ага Ибрахим-бей Мирза Алтын-спахилы Сулейман-оглу, понимаешь?
— Понимаю, — ответил Бичо Пехливан.
— Это человек знатный. Наденьте на него недоуздок, чтобы не брыкался, пока его будут обыскивать. А ты нарежь прутьев от сливы. Потому как и наказанье он получит, за моего коня.
Зекир, слуга, стоял ни жив ни мертв подле Мемед-аги. Мемед-ага смолк и стал подкидывать на ладони браслетку из мелкого жемчуга, время от времени посматривая себе под ноги — выбирая среди навозной жижи место посуше. Его как будто не интересовало, что будет дальше.
А в это время возле ясель уже шла отчаянная борьба, слышалось тяжелое, прерывистое дыхание. Там пытались накинуть на Исмаила-агу недоуздок, притянуть его поближе к привинченному над стойлом железному кольцу и стащить с него штаны. Исмаил-ага вцепился в пояс одного из помаков, вертелся вокруг него и хотел только одного — выхватить торчавшую оттуда рукоять ножа. Рукоять была здоровенная, — верно, и нож здоровенный.
— А-а-а-а-а! — взревел внезапно Исмаил-ага. На него накинули недоуздок и быстро тянули продетую в кольцо веревку; шея его росла, удлинялась, пригибала его лицом к яслям, истертым именно в этом месте другими, длинными или короткими, грубыми шеями ослиц и коров.
Кольцо уже было в пяди от его глаз. Это было старое кованое кольцо, отполированное многолетним непрерывным трением веревок, и было видно, куда ударял молот цыгана, когда оно было еще раскаленным.
Из всего солнечного, богатого мира, в котором Исмаил-ага жил господином, сейчас ему предназначалось только это кольцо для привязи, и он хорошо его видел, стоя согнувшись, со связанными за спиной руками. В Устине был один молодой женоподобный певец, Бюльбюль Мюмюн, которого местные богачи звали иной раз гулять, петь и заниматься любовью… Даже Мюмюн сошел бы с ума от недоуздка и кольца. Кольцо для привязи, выкованное цыганом, — вместо прекрасного мира, которым он владел. И замена происходила сейчас по воле побежденного, покоренного горца. Этого слуги. Предателя, которого славные деды Исмаила-аги выковали ятаганами на горячей, кровавой плахе своей особой мастерской… «А-а-а-а-а-а!..» — Исмаил-ага попытался призвать аллаха или взреветь от гнева, но из его стиснутой, вытянутой шеи вылетели только неясные гортанные звуки.
Читать дальше