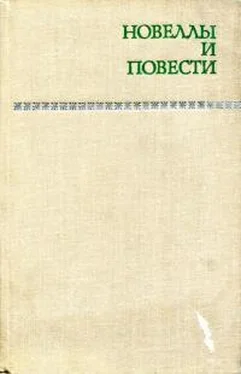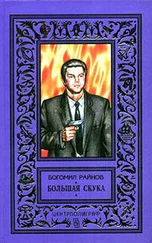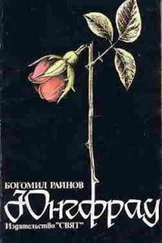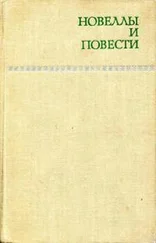3
Исмаил-ага все сидел на ковре, и ему хотелось подсыпать в кальян того ядовитого белого порошка, приносящего забвение, который он запретил себе употреблять. Но он боялся долгих дней безволия и отупения, которые наступили бы как раз тогда, когда он начал верить, что старуха жива и скитается где-то с ребенком, что перед его воротами вот-вот застучит копытами взмыленный конь и кто-нибудь из верных ему людей, которых он, потеряв надежду, все же послал на поиски в лагери беженцев, в уцелевшие города и села, принесет ему долгожданную весть. Может быть, его ждет дорога. Он уже был уверен, что старуха сама оставила Горки. И не только потому, что не нашли ее трупа и следов крови, не только потому, что никому не могло прийти в голову забрать ее в гарем, а просто — любой на ее месте бросился бы бежать куда глаза глядят.
Бросился бы бежать от того самого Исмаила-аги, которого устинский владетель видел сейчас со стороны, видел, какой он чистый, ясный, светлый, как часто печалит его тщета всего земного. Он верил в доброту, в благородство, в мудрость этого человека, и тем горше было ему на него смотреть.
— А-а-а-а! — тихо стонал Исмаил-ага, до боли сжимая веки и встряхивая головой. — Мердивен дюня! Мердивен!
4
Тишина в Устин-сарае была полной и давней. Даже на женской половине уже много лет как не пели, не кричали, не таскали из ревности друг дружку за волосы. Голоса долетали только из дома брата, из-за ограды, разделявшей широкий, словно поле, отцовский двор. Это были возбужденные мужские голоса, рассекаемые мягкими, звучными ударами пальцев по туго натянутой коже.
Когда к вечеру эти голоса стихли, над двором взвился тонкий, протяжный вопль Бюльбюль Мюмюна — то ли песня, то ли рыдание. Пиршество у брата не могло закончиться без Бюльбюль Мюмюна, этого красивого молодого певца, грациозного и чувственного, как ханыма [55] Ханыма — имеется в виду молодая замужняя турчанка.
.
«Сабах езандыды, аман, фильбеден калктым…» — пел Мюмюн песню, сочиненную филибейскими добровольцами. И, слушая его издали, Исмаил-ага спросил себя, похож ли он голосом, лицом, осанкой на певца. Нет, ни в чем они не были схожи, и одним из отличий было то, что того никогда не привязывали к стойлу.
…После утренней молитвы — ох! —
я Филибе покинул,
с белой рукояткой нож
за кушак задвинул.
И пошел на ловлю, ох! — в Перуштицу!
Слушал Исмаил-ага и все время видел кольцо над яслями, и слова песни как бы текли сквозь это кольцо. «До каких же пор, аллах? Уж в этом-то нет моей вины! — ударил он ладонью по ковру и тряхнул головой. — Неужели я должен за все платить? Разве я так устроил государство?»
Чубук его погас, Исмаил-ага попытался разжечь его снова, и когда вдохнул наконец сладостный дым, в душе его наступило горькое успокоение. Он продолжал посасывать мундштук, грустно улыбаясь, прислушиваясь к голосам и чуть недоумевая: долгие годы из-за своей мужской беды не ходил он на эти пиршества, но именно сегодня, в день самых больших своих терзаний, он перестал завидовать брату и его гостям. Впервые в своей неудавшейся жизни он испытывал жалость к тем, кто собрался у брата, и ко всем другим правоверным мужам, потому что именно сегодня, поняв многое в себе, он много узнал и о них. А там, за оградой, ни о чем не подозревали.
Укокошу всех мужчин, — ох! —
чтобы без печали
девочек десятилетних — ох! —
обращать в турчанок!
Я пошел на ловлю, ох! — в Перуштицу!
5
Слушал их Исмаил-ага и словно видел их всех, как сидят они рядом, бородатые и безбородые. Гадал о том, кто из них взял себе в ханымы десятилетнюю девочку. И внезапно, со страхом и удивлением, вспомнил о Деянке.
Деянке было пять лет, он хотел ее удочерить, и в чьи бы руки она ни попала, ее могли взять только в дочери. Но не от этой мысли вздрогнул ага, а оттого, что все это время в своих мыслях он видел только старуху. Он забыл про ребенка. Разве он больше не хотел взять девочку к себе?
И только тогда понял Исмаил-ага, что давно уже простился с надеждой слышать подле себя ее смех. И послал он людей не для того, чтобы вернуть девочку. Его мужская беда, заставившая его обратить взгляд на внучку кунака, куда-то испарилась, вытесненная новой бедой куда более тяжкой, не только мужской и не только его личной. Он понял: прежде всего ему нужна старуха, именно ее хочет он найти, чтобы показать ей, какой он человек, чтобы разглядеть в ее дерзких глазах прежнее свое достоинство.
Читать дальше