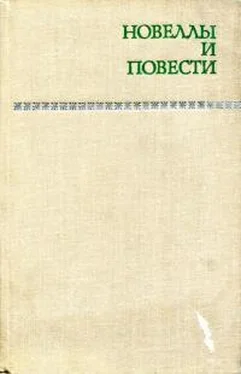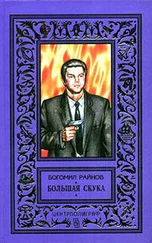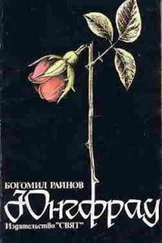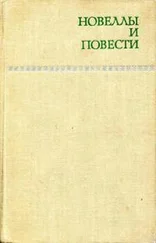— Какое же это счастье, Зекир?
— Для тебя, может, и нет, Исмаил-ага, потому что у тебя все есть, а для меня — счастье.
— Даже если это и так, поздно уже, Зекир, кончилась пожива.
— Легкая пожива, может, и кончилась, Исмаил-ага, но времена еще смутные. Глядишь, и война начнется… Когда я сегодня искал телегу, двое консулов из Филибе ругались с пашой возле церкви…
— Как знаешь, Зекир, — вздохнул Исмаил-ага. — Только сейчас у меня при себе и десяти лир не наберется. Все деньги, что тебе причитаются, дома. За восемь лет службы…
— За восемь с половиной, Исмаил-ага…
— Да, за восемь с половиной. Я откладывал тебе на землю, на жену. Поедем, хоть деньги возьмешь.
— Нет, — покачал головой Зекир.
— Неужели боишься? Ведь если бы я решил, я мог бы и здесь, на дороге…
— Не такой ты человек, чтобы убивать на дороге, Исмаил-ага. А сейчас, ежели ты доволен моей долголетней службой, дай мне те лиры, что при тебе, дай и пистолет свой… Остальные деньги пусть лежат в твоем сундуке. Целей будут…
— Мой пистолет?
— Да, твой. Тебе, небось, жалко, Исмаил-ага? Таких, с барабаном, я и в Филибе не видел. Такой пистолет пяти стоит, потому-то я и попросил…
4
Отдавая лиры и пистолет, Исмаил-ага расспрашивал Зекира, сколько ему лет, собирается ли он жениться, и сам удивлялся, что никогда до сих пор ему и в голову не приходило поговорить вот так со слугой. Особенно удивляло агу, что Зекир говорит умно и складно. И видит далеко вперед, не хуже, чем он сам. Но тут же Исмаилу-аге стало страшно — как бы Зекир не стал разбойником, потому что перед ним стоял уже совсем другой, незнакомый ему человек, предоставленный самому себе, полный внутренней смуты, опьяненный неизвестностью.
И поэтому Исмаил-ага посоветовал ему поскорее купить жену, поскорее обзавестись детьми и привезти детей к нему в гости в Устину. Сказал, что одарит каждого, пришпорил жеребца, махнул на прощанье рукой и поскакал через холм, чтобы опередить телегу. Когда с вершины он обернулся назад — взглянуть, в какую сторону подался его бывший слуга, Зекир все еще стоял посреди дороги, на том самом месте, где он его оставил.
А когда он, спустившись с холма, выехал за поворот дороги, телега уже приближалась. Ее окружала толпа цыган с зурнами и барабанами. Цыганята вели за телегой скотину. Из кустов, оправляя шальвары, вышла цыганка.
Исмаил-ага натянул поводья и будто поплыл вместе с конем по противоположному склону, над молодой зеленью кустарника, в зарослях которого он оставил старуху с ребенком. Он безжалостно пинал коня в живот — его вдруг охватила страшная тревога, ему казалось, что он опоздал, что без него здесь случилось что-то непоправимое.
Он придержал коня в том месте, где трава была примята, снова пришпорил его и, проскакав слишком далеко, снова вернулся; привстал на стременах, озираясь вокруг, потом круто поворотил коня и пересек густые заросли кустарника вдоль и поперек, все так же стоя в стременах и крича:
— Бабка Хаджийка-а-а! Бабка Хаджийка-а-а!
Зурны и барабан на дороге смолкли.
1
К вечеру устинцы прочесали Горки, их окрестности, захватили еще шире — но все напрасно.
Во время утренней молитвы Исмаил-ага опять не стал благодарить аллаха за воцарение мира и порядка.
Он не знал, где старуха и ее внучка, живы ли они и очень ли он виноват перед ними.
Да и не только перед ними, а и перед стариком, перед его сыновьями, перед всеми, перед всем миром…
Нет, не перед всем миром, потому что и перед ним, Исмаилом-агой, тоже многие были виновны, начиная со славного предка Алтын-спахилы Сулеймана-оглу и кончая Мемедом-агой Тымрышлией. Но сейчас важнее было думать о судьбе старухи и ее внучки. Эта забота вытесняла другую, от которой можно было сойти с ума.
2
Он никого не пускал к себе, на верхний этаж Устин-сарая, сидел на ковре, скрестив ноги, и вспоминал о том, как самодовольно предрекал по дороге в Устину шелковое будущее Хаджиевой внучке; как старуха выхватила у него девочку из рук и как продолжала потом ползти на локтях; вспоминал, как раз и навсегда запретил ей говорить об убитой родне и как тотчас после этого она наказала собрать их трупы и зарыть в одной могиле; как он хотел разрубить ее на куски, а она щедро подарила ему все свое золото, вспоминал, как он ковырял ножом возле колоды, как услышал ласковое и страшное приветствие: «Хош гелдин, все ли живы-здоровы в Устин-сарае?..» Он вспомнил, как, морщась от зловония, он осознал, что до сих пор нигде и никогда его не принимали с открытой душой, и как все же от души исповедовался перед ним старик, — что, мол, следовало вовремя оскоромить сыновей, и как за все это время он ни разу не спросил себя, будут ли его ждать в Горках — да и почему, собственно, его должны были ждать? Обо всем этом вспоминал Исмаил-ага, и ему было обидно, что он оказался таким, и в то же время он не знал, мог ли он вести себя по-иному. Во всем, что произошло, было что-то неправильное, какая-то ошибка, что-то недостойное аги. Он поступал как можно благороднее, на его месте и Зекир, и Шабан-ага, и любой другой правоверный поступил бы хуже, но это только усиливало смуту в его душе.
Читать дальше