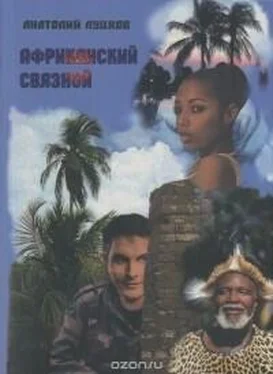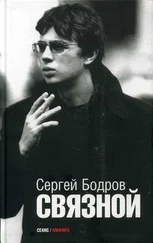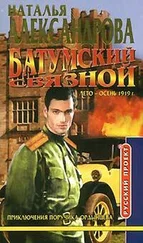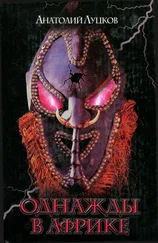— Пора уже, мне кажется, отвыкать от социального утопизма, — непривычно звучали слова угрюмого Кницына, — ведь нынешний экономический кризис в Африке — это еще и расплата за те иллюзии, на которых строились модели ее развития после получения независимости.
Он посмотрел на слушающих и в его глазах, увеличенных сильными стеклами, промелькнул секундный проблеск сомнения, как у лыжника перед прыжком с трамплина, который может стать для него роковым. Но Кницын, видимо, справился с собой и продолжал:
— Ответственность за этот экономический кризис лежит как на самих африканцах, так и на тех, кто безответственно поощрял такие меры, как полная национализация, рекомендовал делать упор на индустриализацию, создавать крупные промышленные объекты и бездумно расширять государственный сектор.
Для тишины, которая наступила после этих слов, Вьюгин не нашел более свежего определения, кроме затертого литературного штампа “гробовая”. Референты Шатунова молча бросали на выступавшего испепеляющие (“снова штамп”, подумал Вьюгин) взгляды. Посол, находившийся невдалеке от выступавшего, осознал наконец опасную вредоносность слов своего сотрудника и боком, как краб, перебрался в более безопасное в идеологическом отношении пространство, то есть отмежевался от Кницына как в прямом, так и в фигуральном смысле слова.
Вьюгину подумалось, что скандальность ситуации должна была логически увенчаться демонстративным уходом товарища Шатунова из зала, сопровождаемого своей внутренне негодующей свитой. Но на дворе все-таки стояли времена, которые отсчитывали свой срок от двадцатого съезда партии, хотя до разрешенного “плюрализма мнений” еще было страшно далеко. Поэтому товарищ Шатунов позволил себе лишь снисходительно улыбнуться, словно умный преподаватель, слушающий, как студент у доски несет дерзкую ахинею, и выступление Кницына ни разу не прервал. А тот внешне безмятежно продолжал еще говорить о том, что расширяющийся госсектор и государственное регулирование в экономике африканских стран все больше приобретают капиталистическое содержание, так как служат обогащению чиновников, членов разных управленческих групп, которые беззастенчиво превращают госсобственность в свою кормушку.
Во время перерыва Вьюгин все-таки улизнул из посольства и ближайший час провел в знакомом баре неподалеку, где за пивом приводил себя в нормальное, в его собственном понимании, состояние после чрезмерной дозы поглощения политико-экономических знаний. Он допускал, что Кницына теперь бьют все, кому не лень. Он же по натуре не боец, в экономике явно не силен, а выступи он в защиту советника-правдолюбца, он подвел бы Ляхова. Последний же явно дорожит своей карьерой и на пенсию уходить не спешит. Потом Вьюгин с вороватой осторожностью вернулся в посольство, но там уже выступления закончились и все в зале разбились на три очень неравные группы. Самая большая была, разумеется, там, где стоял Шатунов, совсем крохотная и непостоянная была возле Кницына, а нейтралы составляли группу чуть побольше. Ляхов, представляющий здесь собственное могущественное ведомство, хотя номинально и подчиненное ЦК и отчасти самому Шатунову, мог себе позволить стоять отдельно и просматривать советские газеты, лежащие на столе для прессы. Впрочем, рядом с Кницыным он уже немного постоял, таким образом выразив свое умеренное диссидентство. Увидев Вьюгина, он поманил его к себе и всего лишь сказал:
— Далеко не уходите.
А потом подумал и пояснил:
— У нас будет совместный разговор с Шатуновым. Я должен попробовать его отговорить от одной авантюры. Вы уже знаете, о чем идет речь.
“Ну, конечно”, уныло подумал Вьюгин, “провинция Милимбо. Там, где скрывается туземный Че Гевара со своими боевиками”.
Вьюгин только в последний вечер, когда отмечалось его успешное возвращение из “командировки”, заметил у Ляхова небольшой портрет главы их ведомства. Массивное лицо, тонкая, почти незаметная оправа очков и раздумчиво-насмешливый не без некоторой ядовитости взгляд, как бы говорящий: “знаю я, чем вы тут занимаетесь!” Немногие могли знать, что происходит там, на этом олимпе, вершащем судьбами не только одной шестой части суши, но и влияющем на другие части земного шара. Ляхов знал многое, он не мог не знать. А вот Шатунов по своему статусу знал больше. Он, молодой выдвиженец (ему было всего лишь немногим за пятьдесят) временами просто ненавидел главу ляховского ведомства, но и боялся тоже. Был у Шатунова свой кумир и покровитель — Федор Кулаков, который на заседаниях Политбюро (ему об этом рассказывали) не боялся резать правду-матку, открыто говорил, куда ведет вся эта либерализация в угоду Западу. И вот не стало его в одночасье. Кто поверит, чтобы здоровый мужик так просто и умер, когда ему едва перевалило за шестьдесят? Тут надо внимательно разобраться, создать независимую комиссию ЦК. А это лубянское ведомство ведет себя так, будто никому не подконтрольно. Конечно, так прямо тут ничего делать не следует, да и шум поднимать на радость нашим врагам нельзя, они того и ждут. Шатунов знал, что тайная война идет, накапливаются компроматы. Вот и этот Ляхов, он даже внешне на своего начальника похож. Ничего, мы еще их поставим на свое место. Шатунов пытался внушить себе уверенность в успехе.
Читать дальше