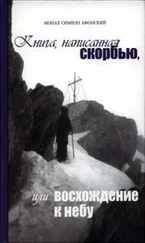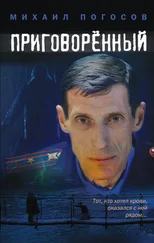Как только я вошел в хату, всех, кроме меня, вызвали с вещами на перевод. Началась суматоха, суета общего сбора, похожая больше на картину на тонущем «Титанике» (прошу прощения за шаблон). Дележка вещей и продуктов, распределение «стремов» и ценных, по тюремным меркам, вещей.
Я остался один. Теперь я уже знал, что одинокое пребывание в камере — это потенциальная опасность. Я чувствовал, что мне готовят очередную западню. Учитывая, что я уже два раза сорвал их планы, я ожидал более жесткой атаки с применением грубой физической силы, которую будут воплощать собой несколько отморозков.
И вот я один. Первое, что я начал делать, это искать в камере оружие самообороны: заточки, гвозди, куски арматуры — что-нибудь, чем можно защищаться.
Ничего не было. Был лишь бардак, оставленный уехавшими. И была еще «мойка» (лезвие) в левом кармане трико. Это несильно меня утешало. Каждую минуту я ждал, что откроется «робот» и войдут несколько человек неприятной наружности с еще более неприятными намерениями. Ожидание натягивало нервы. Неизвестность напрягала. Но за эти сутки ничего не произошло. Ко мне никого не посадили. А на следующий день меня попытались подставить следующим образом.
Утром меня называют «по СИЗО», это значит — к адвокату. С учетом обострившейся ситуации Слава старался попадать ко мне каждый день, потому что каждый день со мной могло произойти что угодно. Я допил чай из железной эмалированной кружки, называемой зэками «трехсотка» (часто с оплетенной ручкой, чтобы не обжигаться), и поставил ее в раковину перед самым уходом.
Снова коридор, длинный, с поворотами и локалками. Звон ключей в руках дежурной, вопли, ор, окрики, команды, на которые мало кто обращает внимание. Я стал уже привыкать к обстановке тюрьмы, к ее стенам, запаху, привычкам, ритму, погружаясь во внутренности ее большого организма. Меня волокли по нему, знакомя со всеми язвами, омерзительными метастазами и загниениями, по которым плакал скальпель хирурга. И в этом большом, страшном, запущенном организме меня не покидало ощущение, что я единственно здоровая живая клетка, которую атакует тюремный вирус, стараясь меня поглотить и превратить в мертвую ткань. Все силы и энергия уходили на то, чтобы остаться — сопротивляясь — здоровой клеткой.
В следственном кабинете меня встретил не адвокат, а его величество Сявкин вместе с начальником оперчасти СИЗО Казаком, которые явно что-то замышляли. Присутствие их вместе не обещало ничего хорошего. Но тогда я еще не знал, что эта фигура — Казак — причина всех наших настоящих и будущих проблем в СИЗО. Это был маленький лысый старикашка в больших очках с плюсовыми диоптриями. Безобидный на вид, но жестокий и коварный внутри.
И вот Сявкин: «Здравствуй. Как дела? Как самочувствие?» — он всегда корчил из себя интеллигента, выставляя свою корректность напоказ. Никогда не грубил, не оскорблял, был почтительно вежлив. Если угроза — то тонкий намек. И все время с его лица не сходила эта глумливая ухмылка — наносная самоуверенность, торжество своей «силы». Подлая мимика мелкого человека. Корчил из себя грандиозного стратега, мнил себя повелителем арестованных душ.
И вот он мне говорит: «Заходи пока в боксик, посиди немного. Сейчас анализы брать будут — кровь, слюну, волосы. Для следственных экспериментов».
«Хорошо», — думаю и захожу в малюсенький боксик. Внутри: «шуба», прибитая табуретка, стол, тусклый свет. На столе стоит стандартный советский графин, наполненный водой, и стакан. Вроде ничего подозрительного: просохло горло? — налил — выпил. Но мне бросилась в глаза одна вещь. В силу обострения всех чувств в обстановке ежеминутного выживания я видел и подозревал подвох во всем, что казалось мне странным, в каждой мелочи. Я считывал окружающую действительность всеми органами чувств, пропуская полученную информацию через сознательные и бессознательные фильтры, затем получал сигнал к действию. Очень часто я не мог объяснить себе, рациональны те или иные шаги или действия. Очень часто я руководствовался лишь ситуацией. А в этом боксике был диссонанс, некое противоречие. И я это уловил сразу.
Во-первых, само присутствие тут графина с водой уже настораживает. Во-вторых — стакан! Он был чистым! На столе стоял очень чистый домашний стакан, отполированный до блеска, как в хороших барах. Не граненый, как сам графин, а именно домашний. Его чистота на фоне грязного залапанного графина просто бросалась в глаза. Это и показалось мне подозрительным. Я ни к чему не притронулся.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу