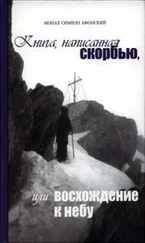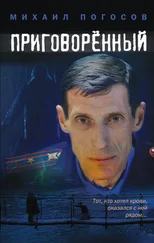* * *
Чуть позже, уже ближе к обеду, меня подняли на второй этаж этого же корпуса. Завели в камеру (уже третью за четыре дня). В хате находилось три зэка — двое на ногах, один спал. Меня встретили нейтрально, но не враждебно, сказали, что хата «людская». Напоили чаем, выслушали. Пришел четвертый сокамерник — в годах, в очках, в глазах задорная озабоченность, озадаченность (он знал уже всё — кто я и что я. И ему были поставлены задачи, определены цели в отношении меня. Но я этого не знал). Этот старичок разбинтовал мою повязку, осмотрел рану, сказав: «О, царапины, даже вены не задел». Засыпал стрептоцидом и забинтовал свежим бинтом. Он был весел, потому что был под кайфом. При мне они сварили пару чеков ханки и укололись.
Позже мне дали поесть и отнеслись ко мне в целом нормально. Я почувствовал, что я вне опасности, по крайней мере видимой. Лица у них были всё же неприятные, со скрытой подозрительностью.
Пришла первая передача от брата: теплые вещи, немного еды, сигареты «Мальборо». Сокамерники взбодрились. Я выпил пару таблеток, чтобы сбить температуру и озноб, и после подробного рассказа о произошедшем лег наконец-то поспать. Но я не спал в прямом смысле — дремал вполуха. И слышал, что за моей спиной шепчутся. Тем не менее я провалялся до вечера, и мне удалось набраться немного сил. А вечером, буквально перед проверкой, они собрали мои вещи, объяснив мне, вежливо и не грубя, что мне здесь не место, что я здесь лишний и ненужный пассажир, и чуть ли не вытолкнули меня за дверь. Я толком не мог понять, что происходит, почему я для них резко стал обузой? (Потом я, конечно, свел все концы с концами и увидел всю картину сорвавшихся планов, задумок, задач.)
Все мои вещи уместились в один большой пакет. Меня повели длинным коридором в том направлении, откуда несколько дней назад я пришел. Завели в пустой бокс под номером 34а. Это было грязное, зачуханное помещение без окон, не предназначенное для проживания. Железные шконки, железный столик, параша, вонь, грязь — этапный бокс.
За мной закрыли дверь.
И всё.
Я поставил пакет на стол. Закурил. И задал себе вопрос: «Зачем я здесь?» Ответа не находил.
Нервы.
* * *
Прошло больше часа. Вдруг открывается дверь. Заходят Нацист и Толя, а сзади них я вижу тех же дежурных, что привели меня. Ну вот, думаю, приехали. Все здесь заодно, мелькнуло в голове. Никакого срыва. Дверь закрылась, как ловушка. И я понял, что сейчас будет происходить. Еще я понял, что это тот самый определяющий переломный момент, в который надо действовать мгновенно.
Все происходит за секунды. Когда зверя загоняют в угол — он бросается. И не успевает эта мразь мне что-то сказать, я, с левой, хорошим крюком, кладу его на пол. Он падает, но быстро старается встать на ноги. Я встречаю его новым шквалом ударов. Он пытается закрываться и даже переломить атаку, но пропускает удары вновь и вновь, что-то покрикивая. Падает, встает, отталкивает меня и, чтобы избежать избиения, запрыгивает на шконку, как на шведскую стенку. Сверху, почувствовав превосходство, он пытается бить меня ногами. Я не мешкая запрыгиваю на ту же высоту, и мы начинаем обмениваться ударами ног.
После минуты такой возни я понимаю, что так ничего не добиться, и, выбрав момент, прыгаю на него, цепляю, и мы оба падаем на землю. Не упуская преимущество своей атаки, я бью его, бью, бью, бью, ногами, руками, коленом, всем подряд, остервенело, без памяти, как сумасшедший, совершенно позабыв, что у меня перерезана рука!
Толя от неожиданности испугался и запрыгнул на стол. Нацист начал визжать, чтобы он ему помог. Я рявкнул на Толю, чтобы он не вмешивался, и, к моему изумлению, это подействовало. Он так и застыл в растерянности, не зная, что делать и кого слушать. Пока я бил Нациста, Толя ерзал на железном столе, терзаясь необходимостью сделать выбор между мной и Нацистом. И это тоже я считаю везением. Я воспользовался моментом и уже забивал в углу полностью сломавшегося Нациста, который начал верещать и умолять остановиться, дать ему возможность всё объяснить. «Миша, хватит! Дай я всё объясню! Хватит, всё, всё!» — кричала эта хитрая мразь. А я уже не помнил себя и бил, бил, бил в голову, по телу — руками, ногами, сильнее, жестче!!! Я ничего не чувствовал, кроме вкуса крови и желания убить его. Это, пожалуй, и есть состояние аффекта, когда разум отключен и тобою движет примитивная ярость, мощное деструктивное чувство. Я клянусь, что не остановился бы, но ворвались два мусора с дубинками, ворвались и в ошеломлении застыли. Картина, которую они увидели, была такая: Толя — на столе, с растерянным, испуганным видом. Нацист с разбитым в кровь лицом — на полу, пытается подняться. Я, отскочив назад, стою, ужасно запыхавшийся. Вся моя одежда и руки в крови. Стены и пол залиты ею, как в тарантиновских боевиках. И только сейчас я вспомнил, что у меня была перевязана порезанная рука. Повязка слетела, рукав моей кофты полностью пропитался кровью и потяжелел. По руке на пол стекали красные струйки. Не капали, а стекали. Я совсем ничего не чувствовал, мне было пофиг! Я лишь злился на то, что меня прервали. Я был полон готовности забить эту тварь до смерти. Все, что я чувствовал тогда, — это ненависть! Никакой боли.
Читать дальше