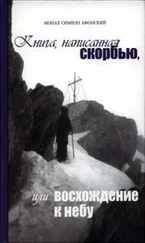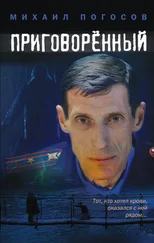Но это была только одна половина выматывающего процесса ломки. Вторая часть активно реализовывалась в здании УБОПа на улице Байкальской, куда меня ежедневно вывозили для проведения «следственных действий» (читай: пыток). Здесь с нами работали не по-детски.
Эта мясорубка начиналась с утра. Меня поднимали в шесть, и сначала я натыкался на эти грубые, омерзительные лица, которые начинали агрессивно жевать мне свою блевотину про «выбор», дачу показаний и далеко идущих последствий в случае моего отказа. Только потом меня, полусонного и уже вымотанного, выводили к месту сбора на «пятак», откуда уже забирали опера. На сам «пятак», в общую массу, меня выпускали очень редко, по ошибке. В основном меня закрывали в маленький, без света, пропахший мочой боксик. В нем нельзя было присесть, а только стоять и смотреть сквозь дырочки в глазке. Пребывание в этом боксике по нескольку часов, в кромешной тьме и вони, стоя без движения — уже было пыткой. Хотелось пить, есть, спать, сесть. Я только курил, заглушая голод и волнение никотином.
Потом за тобой приезжает парочка оперов, клацают на тебе наручники и выводят на свет, который бьет по глазам. С шумом открываются тяжелые ворота. Садят в машину, на голову натягивают шапочку, наклоняют вниз. И увозят в сторону гестапо. По дороге снова нагоняют жути: «Вот сейчас приедем, ты заговоришь». А я тем делом отслеживаю в уме маршрут нашего следования, отсчитываю повороты и перекрестки. Посапываю в шапочку и настраиваю себя на очередной тяжелый день.
Привозят, поднимают на третий этаж. Заводят в кабинет — каждый раз разный, — снова ставят в угол лицом, и ты созерцаешь унылый рисунок обоев, который мозолит глаза. Стоишь. Долго стоишь. Затекают ноги, болят колени, ужасно ломит спину. Долгое сопротивление дискомфорту и боли выматывает.
В кабинет входят и выходят. Видимо, советуются, какими способами меня надо сегодня допрашивать. Обычно меня допрашивали руками и железной пустотелой палкой для вешалок. Реже, войдя в азарт в процессе допроса, опера подключали ноги. И только по вечерам меня истязали электрическим током. Из гуманных соображений и уважения к слуху окружающих ток подключали только глубоким вечером, так как мои сумасшедшие крики могли до смерти напугать служащих всего здания. А по вечерам оставались только самые преданные делу люди и «глухонемые» уборщицы. Они были не помехой, лишь невольными соучастниками ежедневной казни.
Потом тебя усаживают на стул и начинают:
— Ну что, рассказывай!
— Что рассказывать?
— Всё рассказывай, не спеша, подробно, у нас времени валом.
— Я не знаю, что вам рассказывать.
— Слушай, чё ты нам мозг ебешь! Всё ты знаешь! И мы знаем, что ты знаешь. Либо ты сейчас начнешь говорить, либо снова испытаешь знакомую тебе боль. Принесем машинку — и заговоришь как миленький. Не испытывай наше терпение! Ты этого хочешь?
— Нет.
— Ну тогда давай разговаривать. Пора уже начинать говорить. Твои друзья уже вовсю разговаривают. Ты один уперся как баран и молчишь. Ты чё, самый крутой, что ли? Ты думаешь, мы тебя не сломаем? Ты глубоко ошибаешься! Мы с вами еще работать-то не начали. Пару часов в спортзале со спецназом — и будете наперегонки давать показания, закладывая друг друга. Что, не веришь?
…
— Давай рассказывай!
— Я не знаю, что вам рассказывать, — говорю я и, не успев договорить, получаю в грудь ногой. Падаю вместе со стулом назад. Поднимаюсь. Сажусь. Получаю снова.
— Ты чё, сука, играть с нами собрался, что ли? Всё, шутки кончились! Я тебя забью в этом кабинете, как собаку бешеную! Ты мне всё расскажешь, понял?
…
— Чё ты смотришь, бык?! Давай рассказывай!
— Что рассказывать? — включаю дурочку я. И это уже перебор. Мгновение — и я снова валяюсь на полу. Меня пинают, матерясь, кричат на меня, разбрызгивая слюну, срывая всю злость на этот неидеальный мир. Как будто я мировое зло и причина всех жизненных неустройств.
Так начинались и проходили мои допросы. Опера менялись, когда меня переводили в другой кабинет. В другом кабинете звучали те же самые вопросы, присутствовал тот же интерес, в воздухе висела такая же агрессия, плюс-минус. Кто-то сильнее бил, кто-то не очень, а кто-то давил психологически, рисуя перспективы неминуемой тюремной гибели. На обед давали немного отдохнуть, а потом все возобновлялось. К вечеру они, как правило, все уставали и били уже без цели, с психу, оттого, что день прошел, а с места ничего не сдвинулось. Били не фанатично, с перерывами, прерываясь на эмоциональные фразы и вопросы. Палкой — той, что из шкафа, — по голове, рукам, ногам, оставляя синяки для медэкспертизы. Били руками, реже ногами и часто, когда ты этого не ждешь, — сзади, по почкам. Заставляли подолгу стоять, не шевелясь, в углу, с затянутыми до упора наручниками. В кабинете всегда было душно, пить не давали. В туалет водили редко, а когда водили, я крал эти драгоценные минуты, чтобы перевести дух. Их перекуры я использовал для восстановления сил. Они курили, а я таращился куда-то в одну точку, совершенно не заботясь о том, как выгляжу со стороны. Усталым, разбитым, размозженным? Я таким себя и чувствовал! Не оставалось сил на притворство. Я не примерял маску бравого удальца, которому все похеру и он не вешает нос. Нет! Было тяжело, и я больше угрюмо молчал. Это их особенно бесило. А мне помогало сохранять силы, которых с каждым днем становилось все меньше.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу