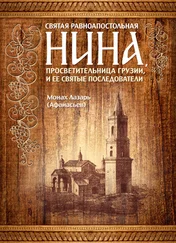Сильные люди — хозяева в этом мире, жестокие хозяева. Но надо им прощать, ибо они во веки веков будут нести груз своего призрачного богатства, которое и позволяет им быть властелинами на земле. Недаром и у них тот же бог — самый исстрадавшийся, самый жалкий из слабых. Понимают ли они, какое в этом таится обещание и какая угроза?
Надо молиться за них, молиться, чтобы господь раскрыл им глаза на эту их мнимую свободу… а пока надо любить свою ношу и постараться обратить уродство в красоту, жестокость — в нежность, горечь — в сладость… хранить это в себе, как цветок души, хрупкий, белоснежный, гармоничный… «Habros — прелестный, изящный, нежный», — звучали в его ушах слова из «Сада греческих корней» Ланселота.
Он стал молиться за свою мать. Ему было шесть лет, когда ее не стало. И он уже не помнил ее. Задолго до смерти она лишилась рассудка. Добрые монашки взялись растить его… кормили молочной кашей, которую он съедал, сидя за голым столом в монастырской трапезной, заставляли замаливать грехи на коленях перед алтарем божьей матери… Воспоминания Гонэ, собственно, начинались с той поры, когда дядя-священник взял его к себе в дом. Несколько лет он посещал пансионат святого Иосифа… Эсквайр, Креветка — так его прозвали за скрытность. Словом, из попытки учиться, как все, ничего не получилось. Все его били — особенно аббат Ведрин, который (как он впоследствии понял) питал давнюю ненависть к его дяде. А вечером, когда мальчик возвращался из пансионата, ученики светской школы швыряли в него камнями, кричали вслед: «Эй, ты, поповский выродок!»
Кончилось дело тем, что дядюшка решил взять его домой. Он был по-своему добр, и Теодор любил его. В доме священника жизнь текла спокойно, без особых радостей, но и без неприятностей: он слушал мессы, глотал пыльные фолианты в библиотеке, корпел над бесконечными сочинениями, которые задавал ему дядя, за каждую ошибку получал удар линейкой по пальцам, за каждый хорошо написанный кусок — лакричное печенье. Словом, между десятью и семнадцатью годами Теодор едва ли двадцать раз выходил в город.
Редкие посетители — священники или миряне, заглядывавшие к дяде, — считали само собой разумеющимся, что Теодор со временем наденет сутану. Сам он, насколько он вообще способен был иметь собственное мнение, без неудовольствия воспринял бы такое решение своей судьбы. Но дядюшка Гонэ думал иначе. «Тебе недостает твердости, чтобы стать священником, — говорил он, — если, конечно, ты не хочешь всю жизнь быть на побегушках у других. К тому же церкви нужны борцы. А ты для этого не годишься».
Однажды дядюшка пригласил его в свой рабочий кабинет.
— Теодор, я не вечен, а потому надо позаботиться о твоем будущем. Я решил, что пора тебе держать экзамен на бакалавра. Все считают тебя кретином, но я-то знаю, что ты человек способный.
С этого дня весь ритм занятий изменился. Теодор плакал, хандрил, болел — все напрасно: у дядюшки рука была твердая. За десять месяцев он заставил его худо-бедно постичь все то, чему пять лет обучают в коллеже, и вот однажды июньским утром Теодор, к своему великому удивлению, узнал, что его допустили к первому туру экзаменов на бакалавра, поскольку он получил восемнадцать баллов по латыни и девятнадцать по греческому языку. На следующий год он без особого блеска сдал философию, ухитрившись на устном экзамене вытащить билет с вопросом о доказательствах существования бога. Экзаменатор прервал его прежде, чем он успел изложить первое доказательство.
— Прекрасно, — сказал тогда дядюшка, — но не будем подвергать испытанию твои таланты. Поставим на этом точку. Я добился согласия мэра на то, чтобы тебе поручили пост библиотекаря-архивариуса при муниципалитете. Платят там плохо, но на жизнь тебе хватит. Зато ты сможешь принести настоящую пользу. В городе есть великолепный книжный фонд, а также документы, относящиеся к концу шестнадцатого века — эпохе, когда Сарразак был крупным монастырским центром. Никто эти книги не разбирал. Тебе хватит дела на всю жизнь.
Мэр сдержал слово и даже велел выделить Теодору помещение в башне Эскюде, как раз над музеем, где он мог бы жить. Вскоре дядюшка Гонэ умер, оставив племяннику следующий завет:
— Остерегайся Ведрина. Эта старая лиса непременно попытается тебя эксплуатировать.
Так и случилось. Вот уже пять лет Теодор преподавал греческий и латынь в пансионате святого Иосифа. Все на него покрикивали, но никто и не заикался о том, чтобы как-то оплачивать его труд: впрочем, это не очень его волновало, лишь бы вечером он мог закрыть за собой толстую дверь башни Эскюде и вновь очутиться среди дремлющих под густым слоем пыли книг и рукописей старого музея.
Читать дальше





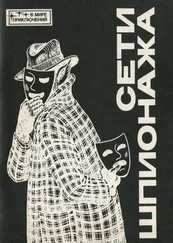

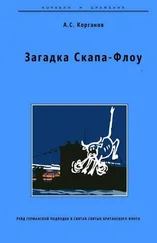

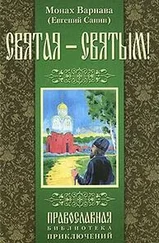
![Робер Мерль - БСФ. Том 17. Робер Мерль [«Разумное животное»]](/books/424176/rober-merl-bsf-tom-17-rober-merl-razumnoe-zhi-thumb.webp)