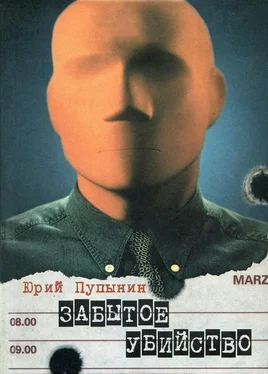Тем временем Винсент Григорьевич недоумевал. Он уже попрекнул себя этой маленькой встречей, Бог знает какой давности, но продолжал ничего не понимать. Зачем? В поисках чего нескончаемыми кругами он бродит и бродит в своей памяти? Какая колдовская сила крутит и ведет его, что нужно ей?
И все же шел и шел он, надеясь получить разгадку сегодняшнего своего состояния, когда не знаешь, как и куда жить. Отчего он не нажил богатства, как Жора, не пытался возвысить славу российского оружия, как Валера, не раскрыл тайн искусства, как Аня, не подарил никому ничего, даже старого серебряного пенсне, как Ира? Пифагорова страна чисел, куда в молодости убежал он, идеальное государство математики, ныне отказала ему в поддержке, и остается он автором двух десятков разрозненных, как искры, статей, так и не сбившихся в пламя, которого хватило бы озарить новую дорогу.
Винсент Григорьевич снова пустился в воспоминания. Теперь он был в гостях у Валеры и Ани.
Весик выбрал место потише и поукромнее, чтобы никто не мешал ему обожать Аню издали. Она вела застольный разговор, деликатно пытаясь объединить небольшое количество своих друзей и подруг с Валериной физико-математической компанией. Валера никогда не беспокоился о созидании гармоничного общества; по его мнению, все должно было идти так, как шло, и туда, куда хотело идти. Конечно, он был прав: все прекрасно, когда натурально. Беда была лишь в том, что иногда откуда-то являлось тяжелое молчание, которое Аня как раз и стремилась развеять, высаживая, по своему обыкновению, ростки понимания в царящую вокруг дисгармонию и хаос. Но это воспоминание об Ане было перебито Валерой.
Валера помахал Весику через стол и потянулся к нему со старинной хрустальной стопкой. Что праздновалось, не мог припомнить Винсент Григорьевич, — возможно, день рождения Ани или Валеры. Видно было только, что справлялся праздник в комнате со старинной мебелью, той самой комнате, в которой когда-то Весик целовался со спасавшей его Ирой, напившись дешевого (другого в магазине не было) портвейну.
Но тут Валера уже протягивал ему многолетний коньяк, купленный из зарплаты секретного ученого, и, улыбаясь, произносил тост:
— Хочу поздравить тебя с блестящей статьей в «Успехах физико-математических наук». Хороша уже сама идея использовать кривые Лапласа в описании падающей капли, ну и изящество, конечно, выше похвал. Как видишь, в прикладной математике есть свои прелести! Для моей Биби это, правда, не пригодилось, но один мой коллега, тоже прикладник, сказал, что тут прямой выход к военным. Но я хочу выпить не за статью... За твое прозрение, которое, я знаю, скоро наступит! Я тебя жду.
Пока Весик чокался и пил, понимая прозрение по-своему и связывая с ним разработку нового подхода к одному любопытному классу задач, Винсент Григорьевич неотрывно глядел на Валеру: не было ли какого-нибудь подтекста или угрозы в словах приятеля? Но Валера держался просто и добро и по-прежнему не ставил никому в вину ни картонного кинжала, мастерски раскрашенного под настоящий серебряной краской, ни сгубившего его мороженого с апельсиновым соком, ни больных нервов старухи матери, проживающей в одиночестве и, чуть что, стреляющей из пистолета.
Не замечал Валера и Весикова сумасшедшего восхищения перед своей собственной супругой. Похоже, что затмившая весь свет Биби недавно улыбалась Валере — наверно, прилетала во сне и обещала скоро родиться и потрясти мир. А может быть, жалость сегодня излилась в его сердце к бедному Весику, поскольку, будучи тенью, знал Валера гораздо больше, чем показывал, и мог предвидеть, что того ожидает в будущем.
Весик с Винсентом Григорьевичем тоже смотрели на Валеру по-доброму. Винсент Григорьевич — потому что знал, что ждет Валеру впереди: гибель и никакой Биби, по крайней мере в этом мире. Весик же в последнее время вообще особенно тепло относился к Валере, поскольку тот был избран Аней, а она, разумеется, не могла ошибиться. Валера был важной частью Аниного мира и, женившись на ней, к прежней дружбе приобрел теперь отблеск Весикова восхищения перед Аней и ее жизнью.
Не в силах больше смотреть друг другу в ясные глаза, Весик и Валера отвели свои взгляды и направили их в другие места: Валера на Сережу Полонского, а Весик на Аню.
Аня между тем смотрела, немного щурясь, поверх всех и кому-то отвечала:
— Хрестоматийный и скучный Репин, говорите вы? С этим трудно спорить. Конечно, бурлаки, которых так многократно и настойчиво призывают пожалеть наши школьные учителя, вызывают теперь меньше сострадания, чем раньше. Считать их только жертвами, а владельцев корабля — преступниками слишком тривиально. По рассказам Гиляровского, который и сам бурлачил, это была настоящая рабочая элита, зарабатывавшая неплохие деньги. Но вы, наверно, слышали, что когда картина была в Японии, то люди становились перед ней на колени? Факт довольно известный, я просто хочу предположить, отчего это могло бы быть, не претендуя на исчерпывающее объяснение. Помимо социального плана, то есть темы зверской эксплуатации, в картине можно видеть также нечто совсем другое. Мне кажется, на ней изображена вечная оппозиция, существующая в нашем внутреннем мире: мечта и реальность. В сознании каждого человека есть мечта о счастье — ее символизирует светлый и разноцветный, возвышенный над водою и землею корабль. Это один из самых красивых кораблей в русской живописи! Правда, он скрыт в какой-то дымке, однако так и должно быть: это же мечта... Но чтобы корабль плыл, человек должен действовать. Нужно прилагать тяжкие, иногда нечеловеческие усилия — нужно страдать, чтобы мечта жила! То есть в одном и том же человеке есть то, что достойно сочувствия и даже жалости, жертва, на которую ему приходится идти, — и то, что достойно восхищения, то, ради чего он живет, его мечты и устремления. Я думаю, что и у Ильи Ефимовича, испытывавшего непреодолимую слабость к денежным купюрам, была какая-то светлая мечта, плохо им осознаваемая... Но она-то и двигала его талантом. И я думаю также, что именно эта сторона «Бурлаков» — изображение особой человеческой двойственности — оказалась близкой восточному сознанию.
Читать дальше