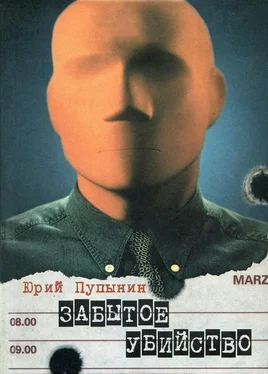Пока они сидели, Винсент Григорьевич опять обижался на Весика. Тогда, в Русском музее, он сожалел о Весиковой глупости, а теперь — о Весиковой чрезмерной робости. Винсент Григорьевич считал, что Весик в этот вечер должен был непременно поцеловать Аню, а Весик между тем счастливо и взволнованно лишь вслушивался в Анино дыхание под своим ухом.
Ровно и спокойно Аня начала говорить:
— Когда-то я читала одну книгу про лесных насекомых. «Предположим, вы вошли в лес... Вы даже не представляете, — там было так написано, — сколько сотен мелких лесных обитателей притворяется мертвыми: падает на землю или замирает от ужаса на ветках при каждом вашем шаге». И я поняла, что я тоже такая. На самом деле я боюсь людей — при их приближении я замираю: все, меня нет! До седьмого класса я плохо училась из-за этого: учителя не понимали, что надо подождать, пока я перестану бояться и скажу что-нибудь... А вот тебя я не боюсь! Мне не нужно падать на землю и притворяться мертвой.
— А Валера? — тихо спросил Весик. — Его ты тоже не боялась?
— Еще как боялась! Я сразу замерла и притворилась, что меня нет, но он меня нашел, схватил и так стиснул в кулаке, что до сих пор больно.
— Не возвращайся к нему!
— Что ты! Я должна идти. Он будет беспокоиться, с ума сходить, я его знаю. А то еще поднимет на ноги какие-нибудь секретные службы, чтобы разыскать меня... Он будет сожалеть о том, что сделал, уже сожалеет, ты не думай!
Вскоре она ушла. А Винсент Григорьевич понял, что, увидев этот синяк на нежном плече, он окончательно влюбился в Аню.
Но наивысшей точки отношения Весика и Ани достигли позже.
В Приморском парке был холм, поросший редкими соснами и частым шиповником. На холм плавно подымалась широкая тропа, припорошенная красным гравием, открытая ветрам и небесным просторам.
По этой тропинке в день цветения шиповника шли Весик и Аня.
Устав подниматься, они сели на скамью, над которой кусты подняли свои ветки, как розовый полог. С зеленых дощечек для сиденья пришлось смахнуть несколько крупных лепестков.
На этой скамейке они не разговаривали, потому что Весик потерял дар речи. Он несколько раз сказал, делая паузы: «Хорошо здесь!» — и было действительно хорошо, — и замолчал совсем.
Аня смотрела на него и улыбалась. Она достала из сумки спицы и принялась вязать какую-то зеленую нить, изящнейшим образом подхватывая и соединяя петли. Неизвестно, как это удается дамам — бесконечно увлеченно, а главное, так уверенно в своей правоте, — создавать нечто из ничего при помощи шерстяной нитки прямо на ваших глазах. Весик спрашивал у двух: они утверждали, что в минуты вязания вовсе не думают ни о какой гармонии, а просто вяжут. Одна, впрочем, умница и поэт, задумалась и пробормотала, сама себе удивившись, слово «контур», ничего не объясняющее. Загадочный процесс, отчасти магический! Наблюдая за ним, Весик был очарован действиями Ани, ее полуулыбкой и теплым, как сам июньский день, молчанием. Он хотел бы, чтобы так и жизнь его в конце концов связалась и упорядочилась, составляя растяжимую, упругую ткань. Наконец у Ани кончился маленький зеленый моточек, и она уложила получившийся шерстяной лоскут и спицы в сумку.
Они поднялись и неторопливо прошли еще метров сто до следующей скамейки. Здесь на цветах шиповника было почему-то особенно много пчел. Ветки то и дело оседали, а потом вновь подпрыгивали, когда, подобрав нектар, нагруженная пчела меняла свой ресторанчик.
За кустами стояли две сосны. Их стволы тоже были розовыми, но не так, как шиповник. Тончайшей, розовой, полупрозрачной слюдой слоилась их кора, отшелушиваясь и слетая живыми стеклышками на слой рыжих игл внизу. По стволам текло несколько капель смолы — от прозрачной, слегка желтоватой до светло-коричневой, почти отвердевшей до состояния янтаря. Сосны, не имея цветов (молодые шишки не в счет), праздновали весну смолистыми ручейками. Весик потрогал одну каплю и никак не мог потом смахнуть с пальцев клейкий след, не уничтожавшийся платком. «Вот как глупо влип!» — мелькнуло с досадой в его голове. В этот момент Аня схватила его за руку:
— Смотри!
Она показывала на желтую узкую осу, влетевшую в розовый цветок шиповника и странно изогнувшуюся, чтобы ударить добродушную (как мы привыкли считать, несмотря на ее болезненное жало) пчелу. Убив ее, словно в припадке любви, могучая оса — шершень, не успела подхватить добычу, и пчела покатилась в траву. Шершень спикировал за нею и куда-то понес над кустами, мощный и быстрый, почти не чувствуя тяжести. Весику не было жалко пчелы, но от случившегося было неприятно. В воздухе повеяло опасностью.
Читать дальше