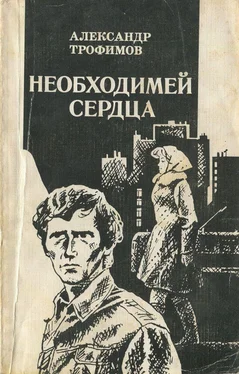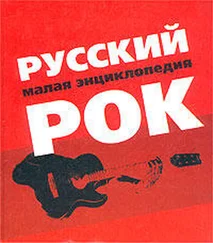«Может быть, и Ольга была?» — подумал Матвей.
Сторожиха продолжала:
— Клавка, может, знаете, нянечкой в детском саду работала. С мужем они приехали ночью, переночевали у меня и сегодня с утра в лес закатились. До солнышка — вот когда надо приезжать.
Они прошли мимо домика, в котором работала Ольга. Что-то тяжелое стронулось в Матвее, поползло к горлу. Он сел на сложенные у дороги бревна, лицом к этому дому. Никакой сейчас не сентябрь, а лето, и тихий час над лагерем лежит и вот-вот закончится, и Ольга выйдет со своей группой на поляну, и он увидит ее, увидит!
Дятел вдруг застучал: «О-ля, О-ля, О-ля…»
— Оля, — вырвалось из Матвея, и Юра посмотрел на него как на сумасшедшего.
Окна клуба были заколочены крест-накрест. Клуб напоминал слепого. Гипсовый пионер отдавал салют. Прошли клуб и подошли к бассейну, разбрасывая листья ногами. Работали два фонтанчика воды, делая чувство пустоты глубже.
Знакомо заскрипела калитка, когда они ступили на территорию детского сада.
Трехногий стул лежал у забора. Матвей приставил его к стене. Тронул окно — закрыто. Комната, где он бывал столько раз, пуста. Стены — голы. Обрывки газет на полу. Дверцы старого шкафа открыты, и распахнута дверь в коридор. Кажется, еще вчера привела его Мила в эту комнату, а уже сейчас не было ни одного следа Ольги. Другие воспитательницы приедут сюда на следующий год, наполнят собой маленькое пространство между стенами, будут думать, разговаривать, смотреть в одушевленную глубину леса. Чужие будущие слова уже сейчас покушались на его право любви.
Матвей соскочил вниз. Пустой дом. Голые деревья. Пустынная дорожка. Он быстро догнал Юру.
Что может сравниться с первыми двумя неделями осени? Сколько в них бодрости, здоровья, тепла. Сколько сил пробуждают в нас эти дни. Сквозь пронзительный воздух видно очень далеко, птицы исчезли, и тишина притаилась на ветках. Чистый, режущий простор, ветер бодрит крепче стакана крепкого чая, и все вокруг приобретает новизну, даже чувства. И только жаль, что много, слишком много паутины сверкает между веток, неприятно ложится на руки и лицо. Вот очень длинная ниточка тянется от кустика до вершины сосны, и конца ей не видно, и ветер натягивает ее, но не рвет, не уносит ее с собой. Осень сняла зеленую занавеску лета и вместо нее повесила свою любимую желтую. Какое бледное, изношенное птицами небо.
Они знали грибные места.
Потом они поели и лежали молча, глядя в небо.
— Я сейчас, — поднялся Матвей и подошел к старым пням, гладким от солнечных лучей и дождей. Ольга бегала по этой потвердевшей траве. Он вздохнул, побродил немного по поляне, постоял, прижавшись лбом к сосне, и вернулся к Юре.
* * *
В последние дни, перед приездом Ольги, он часто стал смотреть на свое отражение в зеркале, и оно не нравилось ему. Не нравился прежде всего искривленный в левую сторону нос. Но этот изъян вряд ли был исправим, а вот оттопыренные уши следовало бы прикрыть длинными волосами. Матвею даже показалось, что зеркало морщится от его лица. «Может, отрастить бороду? — подумал он. — Я буду выглядеть старше. Хотя бы внешне».
Он вспоминал встречи с Ольгой снова и снова, они были единственным миром, и каждая представлялась как праздник, который никогда уже нельзя повторить, и чем дальше в прошлое уходили эти встречи, тем нежней он вспоминал о них. Ничто, кроме них, не могло сжать время — ни телевизор, ни работа, ни встречи, ни книги. Каждая мелочь тянула к былому — стоило ему увидеть черную сумочку у женщины в метро, и сразу било воспоминание, что у Ольги была точно такая же, он смотрел на афиши нового кинофильма и вспоминал, что Ольга хотела его посмотреть, и даже сношенные белые туфли навевали мысль об Ольге. Даже те слова, что были забыты на другой день, теперь всплывали на поверхность сознания и наполнялись каким-то весомым смыслом.
Уезжая, Ольга обещала написать.
Письма все не было. Насмешливое шелестение газет раздражало.
Матвей садился писать сам и бросал, рвал письма, наполненные стыдом, страхом, надеждой, болью, любовью, слезами, светом, верой, мольбами, ожиданием, городскими сумерками, ночным одиночеством, дневной бесконечностью. Каждый раз, когда он уничтожал начатый лист, ему казалось, что внутри его умирает какая-то частичка.
Он осунулся, жил одною памятью и понял, что это — неиссякаемый источник.
Письмо пришло в среду, двенадцатого сентября. Он достал его вечером, в восемь часов пятнадцать минут, и казнил себя за то, что не спустился за письмом раньше. Он смотрел на буквы, написанные Ольгой, и в своем адресе, в своей фамилии видел какое-то проявление любви, точно узрел известный лишь ему и Ольге водяной знак на конверте.
Читать дальше