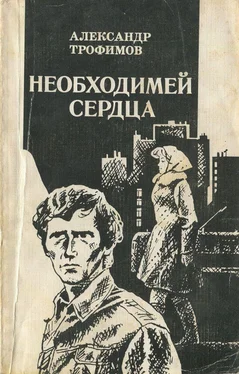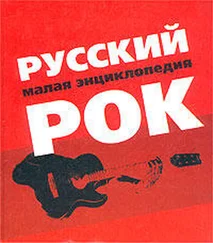Подошли два голоса, и он узнал по одному из них внучку хозяйки Нину. Мужской голос был незнаком ему. От голосов веяло тем счастьем понимания друг друга, которое должно было бы быть у него, но которое кто-то так нагло выкрал из его жизни.
Руки Нины вдруг мелькнули в темноте, как две молнии. Михаил отшатнулся от их драгоценного света, и не сразу, ослепший и оглохший от него, он снова услышал голоса, и все в них было таким искренним, настоящим, простым, что хотелось подслушивать, чтобы узнать секрет этого праздника. Он сердцем впитывал голоса, точно знал наперед, что память о них поможет ему. Потом он услышал, как заскрипела лестница, ведущая на сеновал, как растревоженно зашуршало сено.
В нем нарастало чувство потери, точно он мог быть сейчас рядом с молодым, лунным девичьим телом, приникая огневыми губами к тонкой шее, вот-вот готовой лопнуть от острых поцелуев. И вонзился в него этот запах сена, нет, не запах сена, а запах любви, веры в то, что живет человек не зря. И те, двое, что были сейчас между небом и землей, парили над планетой как два доказательства счастья, которое отняли у него, Михаила. Он хотел уйти, но не смел отнять у души эту радость видеть настоящее в своем первородстве. Голова закружилась от запаха сена и любви — и стыда, что у него не будет такого уже никогда.
Неужели он сейчас встанет и пойдет к вечно недовольной жене, будет говорить — о чем, о чем можно было говорить в эту ночь? Если бы не дочь, если бы не дочь! Но необходимым условием своего счастья Михаил видел счастье Оленьки, а оно зависело от жены, раздражение к которой все чаще густело до ненависти, рождавшей такую душевную пустоту, что все валилось из рук, — скорее бы на работу, долой от судящих глаз жены, от ее глупого, да, черт подери, глупого, других слов нет, высокомерия.
Он поднялся и пошел прочь от дома. Дорога привела его на луг, мокрый от росы.
Река ожгла его холодом, он лег на спину, увидел бесконечные звезды и поплыл среди них, как самая маленькая звезда. Он почувствовал себя таким одиноким и таким нуждающимся в поддержке, что небо услышало его зов и усыновило…
Дома все спали, и он обрадовался этому.
— Шляешься где-то, — зевнула жена и отвернулась к стене.
Он блаженно вытянулся и вдруг поразился непонятно откуда явившейся мысли: у дочери все будет хорошо, очень хорошо, так хорошо, что он даже представить не может, а для этого он должен страдать, терпеть, и чем больше он будет страдать и терпеть, тем счастливее будет жизнь дочери. Он представил, как благодарно улыбается сейчас его Оленька во сне, слыша его мысли.
Долго-долго пел соловей у оврага. Шло к двум часам ночи, а он все пел и пел, оплакивая неверную подругу. Его голос вторгался в мою жизнь без спроса. Молодые листья вздрагивали от его пенья, и я протягивал руки и гладил тонкие веточки, успокаивая их. Было звездно, влажно от росы и свежего воздуха, шедшего от ручья, что прятался в складках земли. И так было хорошо от его тоски, что я заплакал от радости, не испытанной прежде. И я подумал, что есть во мне сила, не знаемая мной и такая она светлая. Но не дано мне испытать ее мощь. А соловей пел и пел, сам не зная того, облагораживал тоску. В песне соловья выражала себя вся эта ширококрылая, какая-то марсианская ночь.
Ах, эта ночь, когда деревья и кусты стерли свои очертания, чтобы войти в ночь и раствориться в ней всяким своим листом.
Птица звала к вольной жизни.
Небо вливалось в меня, а я перетекал в небо. «Длись же, длись же» — шептал я, не зная чему…
Темнота придавала соловьиной песне особую грустную хрупкость, недоступную свету. И тончайшая оболочка звука вместила меня, обняла и понесла, наполняя — покоем? — счастьем? — волей? Ни тем, ни другим, ни третьим.
В теле моем жила молодая истома, я чувствовал, как радостно пела во мне кровь.
До утра бродил я не разбирая дороги, нежный ко всему, а у своего дома увидел под ногами веточку черемухи. Только три грозди было на ней и жалко лежала она на песке. Я остановился, замерев от ее тревожного запаха. Нагнувшись, поднял я упругую веточку. И мне показалось, что видит меня любимая.
И когда, набравшись силы от моего взгляда, ветка ожила, то были грозди ее белее белой накрахмаленной скатерти и в утренней комнате стало еще светлее.
Телефон — перекресток на путях одиночества.
Птицы рассказывали друг другу ночные истории — вместо того, чтобы слушать их, я прислушиваюсь к телефону.
Был бы я так одинок, если бы его не было? Я видел бы день, слушал бы птиц, чувствовал бы облака. Но я слушаю телефонную тишину и жду.
Читать дальше