Осень сорок пятого. Дома очень холодно. Мама в кухне красит свою красную кофту в черный цвет. Схоронили папу. Гроб в часовне Медицинского факультета утопал в цветах, возле него — почетный караул, студентки в национальных костюмах. Меня подталкивают к безмолвному папе прощаться, а я чувствую такой ужас, такое горе. Отец совсем не такой, как всегда, — без очков, без серого жилета с шелковой спиной, без пропахшего лекарствами белого халата. Я хочу одного — прижаться к Дале и лежать, как мы лежали, обнявшись, в двуспальной отцовской кровати в холодной квартире, когда утром пришла мама и сказала, что папы больше нет. Катафалк, лошади в траурных попонах, уйма людей. Такой короткий путь, такая длинная вереница провожающих. Зеленое кладбище посреди города. Большой белый носовой платок — кто-то мне подал и погладил по голове. Первый раз после похорон в классе по знаку учителя все встают, громко хлопая крышками парт. Как печальны эти почести, как печален этот знак траура — черная нашивка на рукаве пальто. Кажется, будто сердце остановилось. А ведь совсем недавно, и месяца не прошло, отец так радовался — он принес мне скрипку. Мою мечту. Мой бред. Я места себе не находила после спектакля «Люли-музыкант», прожужжала родителям все уши: скрипку, скрипку! Я и ночью слышала скрипку — сквозь сон. И вот, наконец, просыпаюсь, надо мной склоняется смеющийся, сияющий папа, целует меня и подает мне скрипку. Настоящую детскую скрипочку — добыл на толкучке. Мой восьмой день рождения. Первое лето после войны. Теперь папы нет. Не верится, не укладывается в голове. Я все еще жду его. Но и кабинета отцовского больше нет — книжный шкаф отправился в университет, комнаты переделали, в квартире появились жильцы. Мы распродаемся — из дома исчезают картины, книги, посуда. Ночами мама вяжет узорчатые варежки, утром относит их в «Маргиняй». Но в памяти всплывает и другое. Повеселее. Вот я хожу на уроки скрипки. Меня учит Александр Ливонт, только что окончивший Московскую консерваторию. Мой учитель молод, чернобров, с добрым, теплым взглядом. Уроки проходят в гостинице «Летува», где он временно проживает. Дверь гостиницы массивная и вертится. Перед уроком можно вволю покататься. Отличная каруселька. Сегодня наш хор школы имени Винцаса Кудирки выступает в «Радиофоне», как раз напротив гостиницы. После хора бегу на урок. Я в национальном костюме, сшитом мамой, в вышитом крестиком переднике, на шее янтарные бусики. Глаза моего учителя смеются: красиво. Ни слова не понимаю по-русски, а мой учитель — по-литовски. Он научил меня говорить: «Молодец, как соленый огурец» [16] В оригинале по-русски.
. Впиваюсь глазами в фотографию молодой женщины в углу комнаты: снимок не цветной, а губы — ярко-алые. Однажды учитель ведет меня на балет «Коппелия». Сам он играет на скрипке в оркестровой яме. Сижу, будто во сне. И в антракте учитель меня не забывает — уводит за кулисы. Как там холодно! Балерины в белых, вблизи довольно-таки потрепанных пачках, поверх которых накинуты кофты, пальто. Я глазею, а сама жую пирожное — учитель купил его мне тут же, в служебном буфете.
Но чудесные эти уроки недолго длятся. Над нашим домом нависает черная тень — чахотка. Папина болезнь. К привычным для меня словам «каверна», «пневмоторакс» прибавляется новое, страшное «инфильтрат», от которого бледнеет мама. Меня не пускают на улицу. Я не хожу в школу. Где-то существует чудодейственное лекарство, отец сказал, умирая, что такое есть. Но его не достать. Остается постель. Противный рыбий жир, таблетки кальция. Все время рентген. А по весне — гостеприимно распахнутая калитка сада доктора Владаса Кайрюкштиса в конце улицы Донелайтиса, где сходятся пологая Выставочная и проспект Витаутаса. Зеленые тени яблонь. Книга, взятая в гостеприимном доме директора Фонда печати Балиса Жигялиса. Бескорыстное тепло сердец совершенно чужих людей.
Я иногда открываю тяжелый деревянный, выкрашенный черной краской футляр с красной бархатной подкладкой. Точно гроб, выплывает он из обители моего детства. Отец умер, думая, что я стану скрипачкой. Брошенную скрипку мне долго не мог простить Пятрас Вайчюнас.
Этого зеленого дома давно нет. Он жив лишь в воспоминаниях — моих и, быть может, тех, кто когда-то здесь жил или ходил мимо. Полиняв, он, можно сказать, стал не таким уж зеленым: чуть поблекший — как бы маячащий в дымке сновидений. А стоял он в самом конце улицы Гедимино, у поворота на улицу Путвинскиса — на высоком каменном цоколе, обращенный к ней длинным фасадом, плотно населенный и бурлящий, точно пчелиный улей, с дворницкой на углу, с террасой, глядящей во двор, и беседкой в саду. Я каждый день видела его в окно. Сегодня на месте былого красавца-дома стоит многоэтажка, а тогда в угловой дворницкой жила прачка терциарка [17] Терциарии — третий орден в монашестве, монахи в миру.
, старенькая и одинокая, в белом платочке, низенькая и с огромным горбом. Как-то раз на мостовой перед этим зеленым домом стояла телега, запряженная смирной лошадкой, но без возницы, а к грядке телеги был привязан маленький белый песик. Этот песик больно меня укусил. В те далекие времена обычным делом было громко, на всю улицу, зазывать клиентов: «Точить ножи», а в дверь мог постучаться «кукольный доктор» — улыбчивый пожилой дядечка. Он собирал у детишек оторванные целлулоидовые головки, ручки-ножки и запихивал все в большой таинственный мешок. Через пару дней он появлялся и из своего огромного мешка извлекал целых кукол — совсем как новеньких. Шла война, в оккупированном городе никто игрушек не покупал. Добрый кукольный доктор мог разве что помочь истерзанным игрушкам. Спасибо ему. А тогда я об этом не задумывалась. В саду за зеленым домом я играла с киоскершиной Оной. Эта Она была воспитанница пожилой четы, девочка чуть постарше нас с Далей. Она открыла нам немало жизненных тайн. Отец, шутя, спрашивал, как дела в «школе» премудрой Оны. А я завидовала ей из-за киоска: сидеть в таком хорошеньком домике, точно в улиточной скорлупе, представлялось мне верхом блаженства.
Читать дальше
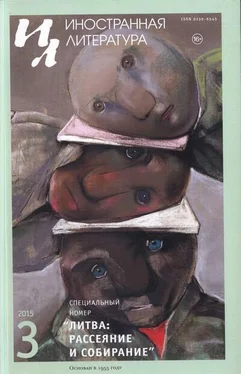






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


