Мелькнула мысль — возможно, и Она не отзывается, потому что он скрыл от нее свою сущность, не рассказал ей о своей руке, скитающейся по миру, а может, и небесам. Теперь эта рука взывает к нему.
Дед Раполас когда-то советовал: если тебя охватит смятение, брось жребий, а еще лучше ожидай жребия, только не от этого распятого бога, а от дубов, святилища, потока священной реки, от воя священного волка; просто живи и ожидай своего жребия, говорил, не опасайся, что проглядишь его или не услышишь, нет, когда он появится — а он непременно появится, — ты сразу же его узнаешь, он заговорит в тебе громким голосом, и ты все узнаешь, не отречешься, не скажешь, что не понял; выбери святое место и жди. Витаутас Беранкис так и поступал: бродил по вильнюсским улицам (ведь Вильнюс — тоже мрачное святилище), смотрел на старинную лепку карнизов, втягивал запах пропотевшего бензином города, украдкой прислушивался к разговорам прохожих, никуда не спешил, знал, что и сам судьбоносный знак ищет его, ищет так упорно, что они неизбежно столкнутся.
Ту книжечку в твердой обложке он нашел в полуразрушенной подворотне, полистал, трясущейся рукой засунул в карман и внезапно захотел убежать от себя, спрятаться в глухой чаще, зарыться в землю, сжечь ту книжку, ибо уже знал, что она и есть тот самый жребий, твердо знал, как тогда, между рядами колючей проволоки, когда поднял с сырой земли кружок колбасы, самой настоящей пахучей колбасы, литовской колбасы, — он сразу же, не колеблясь, узнал растравляющий душу запах дома, осмотрелся (тогда, на зоне, и сейчас у полуразрушенной подворотни) и проклял самыми грязными проклятиями свою судьбу, чувствуя, что какая бы то ни было свобода решать и выбирать себе путь исчезла, что сейчас его ведет тот самый кружок пахучей колбасы (и та книжечка в слегка отсыревшей твердой обложке), ведет в неизвестность, к погибели, а может, и в небытие. Его судьбу всегда определяли весьма странные или ошеломляюще банальные вещи.
В том краю зима длилась восемь месяцев, но река даже глубокой зимой полностью не замерзала. Ее течение, будто живое, должно было дышать воздухом и видеть мир. Она не поддавалась даже самым сильным морозам, была неодолима, как общее течение жизни выселенных на ее берега людей. Могли погибнуть десятки, сотни, тысячи. Но никакая силане могла погубить всех до одного.
Когда их привезли к заросшей лесосеке, их было двадцать шесть. Должно было быть двадцать пять, но в последний момент начальник зоны толкнул к другим и Витаутаса Беранкиса.
(— Запах тебя выдал, милок, — сказал чуть ли не дружелюбно. — Воришка вонючий.
Беранкис все еще ощущал во рту острый вкус майорана и чеснока, можжевеловый запах дыма, вкус и запах дома, пока начальник зоны, передвигаясь по ряду стоявших, обнюхивал каждого, словно пес. В нем не было ничего собачьего, обликом он напоминал утомленного учителя истории или географии. Однако к Беранкису он приближался, как смерть, как безносая, зажавшая в руке вместо косы красивый полированный хлыст.)
Охранники громко ругались, бредя по снегу те два-три километра от проржавевшего ответвления узкоколейки. Должно быть, здесь никто не рубил лес уже несколько лет. Мужчины тащились гуськом, молча, лишь Алексис, едва выбравшись, буркнул:
— Та колбаса была моя. Как только Элените сослали, она мне ее передала. А эти стащили, как всегда. Вкусная?
Снег здесь совсем не скрипел, людские голоса мгновенно превращались в лед и беззвучно падали в сугробы. Деревья вокруг громоздились такие, каких даже и во сне не увидишь, должно быть, многие из них насчитывали не одну сотню лет. Они были красивы до боли и вместе с тем угрюмы — словно в страшной сказке без счастливого конца. При виде их охватывал страх, что в мире больше ничего и нет, что всю землю заполонили эти грозные и бездушные деревья («Они бездушные, — позже кричал Бронис. — Душа есть у дуба, может — у ясеня, даже у осины — только не у этих великанов-призраков».) Мужчины с трудом карабкались через сугробы, каждый со своим знаком, своим ангелом над головой. Брониса вела его отощавшая дзукийская [20] Дзукия (Dzūkija) — один из пяти этнокультурных районов Литвы, находящийся на юго-востоке страны.
муза, Алексиса — образ его Элените, а над головой Витаутаса Беранкиса все еще летал дух пахучей литовской колбасы, светящийся, словно ореол.
Наконец открылась заброшенная лесосека. Охранники удовлетворенно затопали, стряхивая снег с валенок, словно добрались до дому. Лесосеку едва можно было охватить взглядом, в этом краю все было нечеловечески огромное, можно сказать, что когда-то здесь жили великаны. Только никого из этих великанов давно не осталось. Остались только охранники, они все топтались, словно проверяли землю на прочность. А земля здесь была тверже железа, железная земля.
Читать дальше
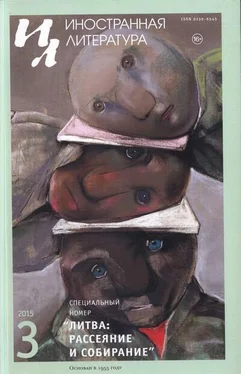






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


