Уже восемь лет он каждую неделю писал ей по письму и по субботним утрам в пустой гостиной громко читал вслух. Писал обо всем: о запахе сирени, о крючковатом носе соседа, о контурах облаков, своем псе сенбернаре, о котором всю жизнь мечтал, но так и не завел — только воображал. Рассказывал Оне обо всем, как всегда, хотя иногда думал, что в этих письмах написал значительно больше, чем мог бы рассказать ей при жизни. Раскрывал перед ней свою тоску и слабость, о чем ни разу не проронил ни слова, когда она была еще жива. Не смущаясь, раскрывал перед ней свои странности и незначительные фобии: так, он всю жизнь панически боится рыб, письма родственников читает только в туалете, свято верит, будто в соседском коте живет душа друга детства Мартинаса. Не утаил даже того, что дважды был ей неверен. В письмах он был неизмеримо откровеннее, чем раньше, почти уверился, что может высказать в них абсолютно все. Но никогда не забывал, что это не так. Ни разу не поднялась у него рука написать о, возможно, самом важном, о том исчезнувшем четырехлетием периоде. Об этом никогда не говорил — ни с ней, ни с кем другим. Даже когда ежегодно пятого марта приходил Алексис и они оба зажигали свечку у нарисованных по памяти портретов — и тогда не говорили. Алексис, рабочий сцены, жаловался, что в старом театре было проще, а в причудах новой сцены сам черт не разберется. Витаутас Беранкис говорил о нехватке материалов, об устаревших машинах и об истеричном директоре артели. Можно сказать, общались зашифровано, думая и желая сказать совершенно другое. О самом важном, ради чего и собирались, они не говорили, иначе сразу же пришлось бы вспомнить, что из всех двадцати шести мужчин выжили только они двое.
— Весть, самое важное — это весть, — прикрыв глаза, повторял Бронис, — я бы написал такое извещение, что к нам тут же прилетел бы целый мир, прилетел бы, отбросив какие ни есть дела. Но нету у меня ни чем писать, ни на чем.
Головы всех мужчин клонились к земле, хотя были легки, как пух. Лица их были одинаковы, и глаза были одинаковы — выражали усилие выжать из ума хотя бы одну-единственную мысль.
А облака все плыли и плыли в одном направлении, словно указывали им путь если и не к свободе, то хотя бы к жизни.
Заговорить — означало бы сразу же вспомнить то, что с огромным трудом было забыто, изгнано из памяти, скомкано и заброшено в глубокую-глубокую яму, может — бездну; означало бы снова увидеть тот бурый рогатый пень, похожий на голову быка, который зубами вцепился ему в руку; ту стужу и метель, или сначала метель, а потом стужу, постоянно проваливающихся в сугробы мужчин, их лица, одинаковые у всех, почерневшие, и лишенные выражения, совершенно не похожие на нарисованные Алексисом, хотя когда-то они, видимо, были в самом деле такими, и впрямь такими: Валюс, Зенка Каунетис, двое чужих, Пранас и все другие, плоские, выведенные жестким карандашом (Алексис всегда рисовал твердым графитом); они стояли, обступив полукругом единственную тонкую свечку на столе в его комнате. А вспоминать, отчетливо вспомнить их и еще других, безымянных и безликих, они с Алексисом не хотели. Не хотели, не осмеливались, были не в силах. Молча опрокидывали по чарке, потом еще по одной, красиво опустошали ритуальную бутылочку, и Алексис, вздохнув, говорил: «Иду кормить Элените». (Его жена уже несколько лет не вставала с постели. Маленькая Элените, еще одно недопустимое воспоминание: черным снегом выстуженное чрево, руки, делавшие сказочные колбасы, Элените — муравей с оторванными ножками.)
Алексиса и Элените уже не было на свете; Она не отозвалась, так и не подала знака. Дочери, как обычно, ссорились и вновь мирились с мужьями, иногда спрашивали, есть ли у него все необходимое, не нужно ли чем помочь — а чего ему может не доставать, еще совсем не старому, крепкому мужчине? Он и сам пока мог помочь другим, и дочерям в том числе, будь в том нужда. Лето почти совсем вошло в силу, можно бы куда-нибудь поехать, но Витаутасу Беранкису нравился Вильнюс — старинные раскаленные улочки были ему милее, нежели спокойная прохлада озер отчего края.
Желание набросилось на него внезапно, ужалило, словно змея в голую, незащищенную голень, яд моментально распространился по всему телу, затмил разум, нарушил даже сны. Это ядовитое желание билось в сердце вместе с кровью. Может, сама кровь превратилась в это желание, сердце превратилось в это желание, почки и печень, все тело превратилось в него. Странное искушение преодолеть самого себя жгло, как ледяной огонь, Витаутас Беранкис вдруг почувствовал, что всю жизнь не осмеливался признаться себе, кто он такой на самом деле, притворялся перед другими и обманывал себя, опустошил важную часть своей души, без которой он не был настоящим Витаутасом Беранкисом, жил, как другой человек: с иным лицом, иным именем, иной душой. Отрекся от себя, едва лишь трижды прокричал петух, сам был и Иисусом, и апостолом Петром. Ему надо было найти себя, вернуться в себя хотя бы перед смертью.
Читать дальше
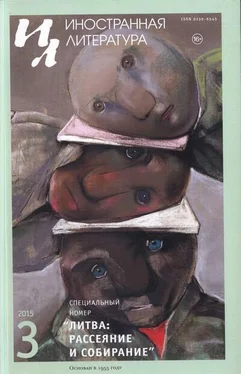






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


