— Завтра привезем паек, — сказал один охрипшим голосом.
— До завтра мы сбежим, — отрезал Зенка Каунетис, он единственный чувствовал себя бодро.
Охранники даже не отозвались, даже не передернули плечами.
Зимой в этом краю никто не мог пройти больше нескольких десятков километров — даже на лыжах, даже с ружьем, поохотиться за живностью. Даже опытные охотники не удалялись от своих избенок. Отсюда никто не мог сбежать, даже звери, даже птицы — разве что облака, которые все плыли и плыли в одном направлении.
— Неужели нас оставят одних? — удивился Бронис. — Не может быть.
— В Стране чудес все может быть. Все что угодно! — отрезал Зенка.
Почему-то все называли этот край, долину этой реки, Страной чудес.
— Завтра привезем кормежку, — удаляясь, пробасил охранник. — На все две недели.
Он играл с этой книжечкой в твердой обложке, как кошка с мышью, хотя хорошо понимал, что это она с ним играет, мучает его, гипнотизирует, словно удав оцепеневшего кролика. Она обжигала пальцы, но стоило только отбросить ее в сторону, он тут же ее хватал, открывал, в сотый раз рассматривал лицо на небольшой фотографии. Витаутасу Беранкису оно напоминало лицо Оны: довольно широкий рот, выступающие скулы, большие темные глаза. Женщина на фотографии казалась хорошей и усталой, скорее всего, она была передовой дояркой, может — ткачихой. Несколько дней он необычайно серьезно размышлял, что правдоподобнее, словно это имело какое-нибудь значение. Важен был только сам документ, эта злополучная книжица, хозяйка которой смотрит на Витаутаса Беранкиса добрыми и грустными глазами, глазами Оны, понимая и оправдывая его, разрешая делать, что хочет. Она сама предлагала ему помощь, даже без просьбы, ей совсем не было жаль этой книжечки в твердой обложке, этого достойного свидетельства, предоставляющего хозяину права и льготы, — ведь она была простой Женщиной, дояркой или ткачихой, возможно, даже не знала об этих правах, которые были ему просто необходимы, необходимы ненадолго, не на все время, только на дорогу туда и обратно, на дорогу в прошлое, недозволенную, опасную и, должно быть, неизбежную. Он обязан был найти свое прошлое и посмотреть ему в глаза. Человек, забывший свое прошлое или отрекшийся от него, — всего лишь заводная кукла.
Он не спрашивал себя, как возникло это желание, но жаждал знать, почему оно возникло именно теперь, сердцем чуя, что пенсия здесь ни при чем, как ни при чем свободное время, ведь болезненные чувства мучили его всегда, перехватывали дыхание и душили, выли, запертые в глубоких подземельях, стуча в железные двери. Но так и не выломали этих дверей, даже и не пытались. Почему именно теперь? Ведь жизнь, в конце концов, сложилась совсем неплохо: работа в огромной артели, даже должность какая-никакая; похвальные грамоты и медаль ветерана труда; две любимые дочери, родственники и друзья. Ничто не напоминало того, чего он сам не хотел вспоминать, скорее всего, ему удалось заклепать эти подземные двери. Почему именно теперь? Почему не сразу после смерти Оны? Почему не в какой-нибудь другой день, неделю, минуту тех тридцати пяти лет?
Спокойно все обдумав, он решил, что никаких причин нет, но чувствовал, что гнетущее желание непременно победит, уже победило. Казалось, душу захватил другой человек, тоже Витаутас Беранкис, но другой, не тот, который все эти годы упорядоченно и правильно жил, работал и старался. Тот всегда умел заставить жизнь быть такой, как должно, разложив вещи и мысли по полочкам, а этот новый посеял смятение и расстройство не только в себе самом — но и во всем мире, из-за чего солнце не всходило на востоке и не опускалось на западе, дважды два для него не всегда означало четыре, запахи становились вкусом, мысли — облаками, все плывущими и плывущими над промерзшей землей. Мир внезапно утратил гармонию, всякий предмет существовал по отдельности, сам по себе, и мог означать что угодно: сейчас одно, а через мгновение — уже другое. И самое плохое — этот новый Беранкис мог вспомнить то, что на века было забыто, а возможно, и вообще никогда не существовало. Мир рассыпался и уже не хотел становиться целым. Таким Витаутас Беранкис ощущал себя один-единственный раз в жизни — во время Большого совета девятнадцати мужчин (столько их осталось из двадцати шести). Однажды он поймал себя на том, что разговаривает с котом горбоносого соседа — выслушивает совет друга детства Мартинаса. И понял, что неумолимое желание победило. Надо было или отважиться (все уже давно было решено, только он все медлил), или сойти с ума.
Читать дальше
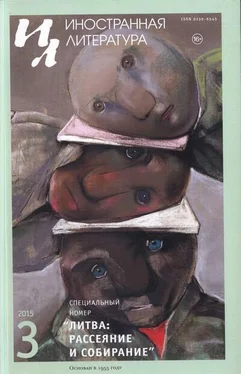






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


