Но было уже поздно. Он так и написал в первом письме, все еще наивно радуясь, что город такой большой и шумный, совершенно не похожий на застрявший в памяти грязный, с деревянными тротуарами городишко. Здесь все изменилось. Витаутас Беранкис старательно вывел на конверте свой адрес, тогда еще не думая, что таких писем будет много — писем Оне. Находясь так далеко от дома, от чугунной оградки ее могилы, он внезапно почувствовал, что она жива. Благодаря ей он жил те тридцать с лишним лет, выживет и теперь, ибо его Пенелопа ожидает мужа, отвергнув претендентов, ожидает его возвращения с берегов широкой мрачной реки.
По реке плыл одинокий, из неотесанных бревенчатых обломков плот. Он продвигался вперед медленно, словно смертельно устал. Морозом гонимые звери приостанавливались на берегу и провожали его тревожными взглядами. Однако плоту они были неинтересны, он искал людей, которые могли бы принять весть. А людей все не было и не было.
Он сел в автобус, насвистывая, посматривал через окно на остовы каких-то заводов или электростанций, нисколько не сомневаясь, что он просто исполняет формальность. Нехорошее предчувствие шевельнулось под сердцем только тогда, когда он увидел болото, куда в давние времена сбрасывали горы опилок. Вонь от него и сегодня была такая же, как тогда. Значительно труднее было снова увидеть забор с колючей проволокой.
А тяжелее всего было войти внутрь, вступить в живое прошлое, отворить двери кабинета начальника зоны; хотя нет — труднее всего было надеть маску, состроить подходящую мину: солидную и вместе с тем просительную, заговорщицкую, но не допускающую возражений. Труднее всего было раскрыть рот — до этого момента еще возможно было отступить, убежать, прикинуться, что заблудился. Начальник зоны бесконечно долго сверлил его взглядом, разбирал по косточкам и каждую отдельно исследовал, ощупывал, даже обнюхивал, еще дольше мял и рассматривал документ. Витаутасу Беранкису показалось, что он уже никогда отсюда не выйдет, тут же окажется за колючей проволкой за подделку документов. Но наконец начальник медленно, нехотя поднялся со стула, обошел стол и подал ему руку. С этого мгновения все должно было удаваться, он понял, что одержал победу, что все рассчитал правильно, что водоворот судьбы поймал его и сам понесет дальше, словно замерзшая река несет немой, из неотесанных бревенчатых обломков плот. Наглость Витаутаса Беранкиса была беспредельной, но он рассчитал правильно: здесь все в первый раз видели удостоверение депутата Верховного Совета, оно подействовало, как волшебное слово, тайные двери сразу приоткрылись, начальник зоны, похожий на уставшего учителя истории или географии, тут же увял, опасаясь только одного: а не пахнет ли здесь какой опасной проверкой? Но Витаутас Беранкис не позволил ему прийти в себя, хорошо выучил свою роль, сто раз прорепетировав перед зеркалом, хотя сейчас все делал по-другому. Он намеревался говорить сухо, а выпалил целый монолог — о старости, желании пройти по дорогам прошлого, сказал, что некогда здесь работал (ведь и в самом деле работал, только совсем в другом качестве), припомнил множество мелочей, засыпал начальника вопросами, лукаво пошутил, попросил, чтобы его визит не получил огласки, вытащил привезенный спирт, коньяк и закуску (глаза хозяина заблестели) и все называл начальника зоны коллегой. А дальше все происходило, словно во сне, в таком сне, в котором кошмарные пейзажи реальнее настоящих, монстры живее всех живых, а бессмысленные слова обладают значительно большим смыслом, нежели вся мудрость человечества. Но это был не сон, далеко не сон, он наконец понял, что попал в страшную ловушку. Все здесь казалось не таким, как раньше, но это не имело значения: Витаутас Беранкис, как и раньше, видел прежние бараки, прежние тропы, видел теперь уже срытый холмик, засыпанные ямы, узнавал каждое давно срубленное дерево, ощущал давний, когда-то рассеянный повсюду запах ничем не заглушаемой обиды и безнадежности, запах, более крепкий, чем окружающая зону колючая проволока. И люди теперь выглядели совсем по-другому: вокруг болтались угрюмо косившиеся типы и наглые пацаны, но он видел совсем не их, чужие лица с ходу изменялись, превращались в совсем другие, в лица других людей, знакомых и незнакомых.
— За что сидишь?
— За дело, — сказал Валюс. — Ничего, будет и на моей улице праздник.
— А ты?
— Не знаю, — ответил Беранкис. — Ни за что. По ошибке.
Читать дальше
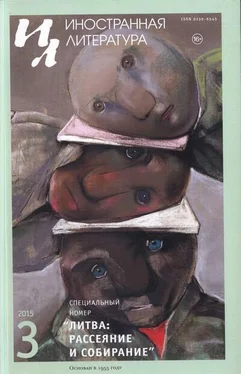






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


