Мне в этой истории не виделось ничего смешного, она была очень грустной, от нее веяло несчастьем, но лупоглазая свояченица Игнацы веселилась, утащила Андре на какие-то танцульки — я и понятия не имела, что где-то еще бывают танцы, не тряска под «бу-бу-бу», а именно танцы, и там они танцевали до упаду, а о том, что было потом, ни свояченица Игнацы своей сестре, ни Андре — мне не рассказывали. Он почему-то торопился вернуться. Говорил, что его ужасные крысы без надлежащего ухода будут хандрить и заболеют, хотя за ними приглядывает женщина из Средней Азии, которая убирается у них в подъезде, она очень ответственная, была у себя дома учительницей.
Я просила показать фотографии сыновей, но их у него не оказалось. Он сказал, что в Москве есть большая пачка фотографий деда, Софьи, погибших дяди и тети, есть снимки, неизвестно кем сделанные, того, как они с бабушкой были у жившей в городе с труднопроизносимым названием соратницы его деда по всем тем взрывам и стрельбе, в которых они вместе участвовали, и что эта соратница деда перевела «Маленького принца».
— Прости — что она перевела?
— «Маленького принца». Его написал французский летчик, он погиб во время войны.
— Маленький принц?
— Нет, летчик. «Маленький принц» — это сказка. Ты не читала? Она не только для детей.
— А! Да-да, «Le Petit Prince». Конечно! Перевела? Какая молодец!..
У меня не было времени на чтение сказок, уж во время войны и после нее — тем более. И желания их читать не было никакого. «Маленького принца» я прочитала совсем недавно. Он и сейчас на столике у моей кровати. Он жил на планете, которая была чуть больше него самого, и ему очень не хватало друга. Я жила на другой, огромной, планете, но не хватало мне того же…
Из дверей морга появилась последняя вдова. Кудрявые дочки застревали в ее длинной юбке: старшая — ковыряя в носу, младшая — отвлекаясь на поднятый порывом ветра желтый листочек. У вдовы была тонкая талия, сильно выступающая корма, плоская грудь. Губы со скорбно опущенными уголками казались красной нашлепкой на блестевшем от слез лице. От нее шла вибрация смерти и похоти, вдова шумно высморкалась в бумажную салфетку, бросила салфетку на землю, младшая дочка выпустила только что пойманный листочек, подняла салфетку, громко топая, побежала к урне в углу двора, опустила ее в урну, отряхнула руки, вернулась к матери, показала сестре язык. Распорядитель собрал несколько мужчин: черным костюмом, черной рубашкой и бледностью среди них выделялся Потехин. Разлучница взяла меня за руку.
— Сын не должен нести гроб отца, — сказала она.
— С ума сошли?
— Миша намекал…
— Он меня называл «сынуля», и что с того?
— Но вы, во всяком случае, Михайлович, а не Карлович…
…Разлучница явно собирала материал о моей семье, о Шихмане, моем отчиме, своем первом муже. Быть может — для себя, быть может — для какого-то знакомого, одного из тех писателей, что, по рассказам моей матери, сиживали в студии разлучницы, на ее программе. Что такого было в Шихмане, что притягивало женщин, молодых, сочных, жаждущих внимания и ласки? В молодые годы его преследовали неудачи, начиная от смершевской машинистки, что предпочла ему переводчика, шепелявого и коротконогого; потом буфетчицы из столовой эмгэбэшного общежития, искавшей соответствия между величиной звезд на погонах и размерами мужского достоинства, неудовлетворенной его маленькими звездами, когда они стали большими, буфетчица пропала, ее просто заменили на другую, Шихман спросил «А где Клавдия?» «Болеет!» — ответили ему, он встретил эту Клавдию на бульваре, лет через десять, уже будучи женатым на моей матери, он держал меня за руку, сказал: — «Вот с той тетей, которая нам кивнула, я работал!» — а тетя была маленькая, толстая, старая, со шрамом через лицо, в лагере ее насиловали уголовники, Шихман, словно предчувствовавший грядущий разрыв с моей матерью, перед тем, как я ушел в армию, несколько вечеров посвятил откровениям — о прошлом, настоящем, о войне, службе у Хозяина, о женщинах.
Женщины пошли косяком, когда Шихману минул полтинник, даже ближе к шестидесяти, виски посеребрились, волосы расправились, перестали стоять торчком, он стал похож сразу на нескольких голливудских актеров. Он показывал фотографию, чудом сохранившуюся в кармане трофейной охотничьей куртки, которая вместе с какими-то пожитками не была конфискована, не была присвоена соседями по коммуналке, лежала в фибровом чемоданчике, ждала — после тюрем, Лермонтова в одном томе, предчувствия расстрела. Он, Михаил Шихман, среди других доставщиков атэнского. Ироничный взгляд, семитский тип. Фото сделано после вручения орденов, всем дали Ленина, Шихмана обошли — Знак Почета. Может быть, он привлекал женщин печалью в глазах? Умением слушать? Всегда есть чуть застаревшие девушки, готовые за это все отдать и простить, главное — будущие прегрешения. В середине семидесятых еще была жива бабушка, она подзуживала мать: «Ты слишком много ему позволяешь!» Моя мать, возможно, и позволяла, но ничего не прощала. Прощение само по себе было ей чуждо как христианская блажь. Несмотря на то, что она, бывало, справа-налево крестилась, при этом, однако, приговаривала как истая католичка «Матка боска ченстоховска!» и грубо ругалась по-польски…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


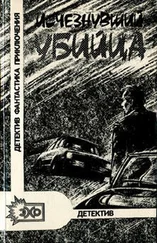



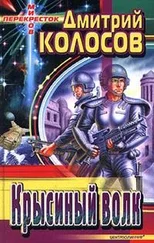


![Алексей Головенков - Крысиный король [litres]](/books/384715/aleksej-golovenkov-krysinyj-korol-litres-thumb.webp)


