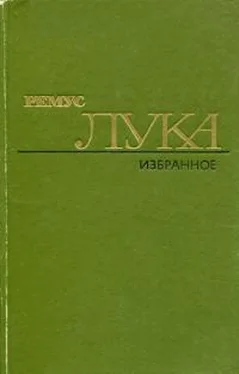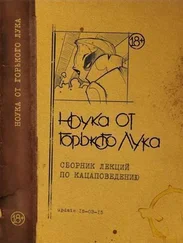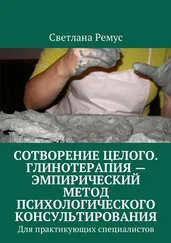— Да нет. Только со мной точь-в-точь так было.
* * *
Старику Висалону Крецу не пришлось долго ломать себе голову, чтобы понять смысл всех событий, происходивших в деревне за последние годы. Его острый ум давно постиг, что ни ему, ни его домашним, к которым он уже давно охладел, но с которыми, помимо своей воли, был крепко-накрепко связан, хорошего ждать нечего. Позади осталась тревожная, беспокойная жизнь, полная жадной, безудержной погони за богатством. Приходилось сталкиваться с людьми посильнее его самого, — с Нэдлагом и со всем его родом, не знающим никакой жалости. Открыто бороться с ними Крецу не мог, и единственным оружием против звериной жадности и слепой, неукротимой силы крестника служила ему лишь гибкость его ума. И Крецу удалось не только сохранить землю, унаследованную от родителей, но и еще прикупить. Он искал для себя сильных хозяев и нашел их в лице либеральной партии, которая нуждалась в своих людях в этих местах. В течение ряда лет они с Нэдлагом сменяли друг друга на посту примаря [13] Примарь — в сельской местности староста, в городе — голова.
. Они ненавидели друг друга, но вынуждены были друг другу помогать. В эти беспокойные годы Висалон Крецу приобрел большой опыт в делах, которые не терпели солнечного света, но давали большие доходы. Он научился распознавать опасность, как дикий зверь острым чутьем узнает, что приближается враг. Даже теперь, когда он весь высох от старости и искривился, словно ствол грушевого дерева, когда он еле двигался и руки и ноги у него дрожали, мозг его работал безотказно, непрерывно изыскивая средства сопротивления новым порядкам, которые железным кольцом сжимались вокруг него. Он чуял опасность даже в самых обычных делах, совершавшихся в деревне. Висалон был слишком стар, чтобы надеяться на счастливый поворот в жизни. Его холодный ум, не подвластный страстям, говорил ему, что, сколь бы ни было твердо его решение сопротивляться, наступит время — и в один прекрасный день отберут у него все богатства, так же как отобрали землю у Мудра. Он понимал, что новую силу не одолеешь никакой хитростью, и его не интересовал источник этой силы. Он видел ее в договоре, который должен был заключить со своим батраком Ионом Георгишором, вторым сыном Фырцуга, в процессе с Ромулусом Пашка, который он проиграл, в том штрафе, который он заплатил за то, что не засеял добротным зерном свою же землю в Дупэтэу, в пшенице, кукурузе, мясе и молоке, которые он должен был продавать в сельскую кооперацию, и во многом другом он видел олицетворение той силы, которая надвигалась на него.
Висалон Крецу ненавидел эту силу. В его злобной душе, которая не смягчилась и в старости, не было места ни для какого другого чувства. И чем яснее он понимал бесполезность всякого сопротивления, свое бессилие изменить неумолимо прямой путь этих людей, которые стремительно наступали на него и говорили: «Отойди в сторону, это наша земля, это наш труд», — тем сильнее разгоралась в нем ненависть. Эту поднимающуюся силу, которая постепенно сдавливала, душила его, он видел и в клубе на пригорке и поэтому не торговался с Константином, когда тот попросил у него денег для музыкантов и вина для танцоров.
Висалон Крецу удивлялся, что после воскресенья с танцами и выпивкой у него во дворе все еще продолжает по вечерам гореть огонь в клубе. В пятницу вечером, после ужина, когда Константин собрался уходить, он окликнул его:
— Константин, погоди минутку.
Висалон был рыжий, сухощавый, сгорбленный старик. Ему было уже за семьдесят, но ходил он всегда в чистой, ладно пригнанной одежде — белой, без единого пятнышка рубахе, отглаженной сермяге и безрукавке, в крестьянских белых штанах, плотно облегавших худые кривые ноги. Его покрытые красными и желтыми пятнами щеки высохли и стали похожи на пергамент. Говорил он бесцветным слабым голосом, жалобно, словно вечно плакал.
— Сядь, поговорим.
Он смотрел на сына мутными старческими глазами, без всякого намека на отцовскую гордость его юношеской красотой. Недовольный Константин уселся. Видя, что старик молчит и рассматривает его, словно лошадь на базаре, он грубо спросил:
— Ну что?
— В воскресенье больше не будешь танцевать?
— Нет.
— Почему?
— Не окупается.
— Почему не окупается?
— Да народу мало, а кого я ждал, не пришла.
— Эта сушеная слива, дочка Сэлкудяну?
— Она самая.
— Ну и дурачина же ты, сыночек. — На лице Висалона не появилось никакого выражения, и голос оставался таким же бесстрастным, скрипучим, только зло заблестели глаза. — Дурачина ты.
Читать дальше