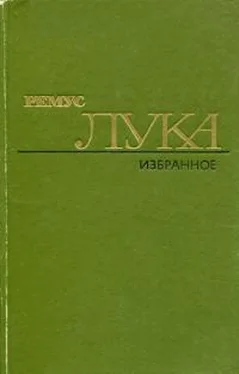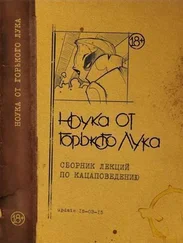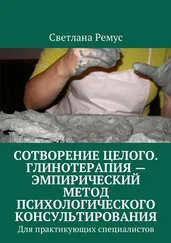Но, видно, сын привык к отцовской ласке и невозмутимо ответил:
— Это уж мое дело.
— И мое.
Парень нагло и бесстыдно захохотал.
— Уж не втюрился ли ты в Фируцу? — спросил он.
— Нет, сыночек. Возись с этой лягушкой. Я не вмешиваюсь. А вот танцы — это дело и мое.
— Тебе пришла охота поплясать?
— Охота или неохота, а в воскресенье устрой танцы!
— Устраивай сам! — Парень встал, надевая шапку. — Мне некогда.
— Погоди, Константин, погоди!
Парню не терпелось, но он невольно испугался голоса старика, похожего на шелест смятой бумаги, и его злых глаз. Он снова уселся на стуле.
— Ты как думаешь, почему я тебе давал вино и деньги на цыган?
— Выжил из ума, вот и все.
— Ты так думаешь?
— Так.
— Я же говорю, что ты дурак.
— Для этого ты меня и задержал?
— Нет. Погоди, я тебе скажу, зачем я тебе давал вино и еще дам в воскресенье, почему я дал тебе денег на цыган и еще дам. Послушай меня. Я еще не выжил из ума, и тебе многому нужно поучиться у меня.
— Слушаю! — сказал Константин, а сам поднял глаза вверх и стал считать щели на потолке.
— Там, на взгорке, в доме твоего крестного, они хотят открыть клуб. Каждый вечер там лампа горит, книжки читают, газеты.
Константину надоели эти рассказы про клуб. Он приходил в ярость, как только вспоминал о нем. Его самолюбие не могло перенести унижения, которому его подвергли «эти самые» оттуда. У него потемнело в глазах, но он превозмог себя и крикнул:
— А мне что! Пусть читают, пока не ослепнут.
— Нет, пусть не читают.
Парень вздрогнул от нахлынувшего смутного воспоминания, словно втянувшего его в быстрый водоворот. Но до него снова донесся скрипучий голос старика:
— Ты знаешь, про что теперь газеты пишут?
Не сразу сообразил Константин, куда отец клонит, и подумал: «Старый хрыч меня еще учить хочет».
— Нас ругают, — ответил он, улыбаясь.
— Ругают нас и дурней против нас поднимают. Хотят кусок хлеба изо рта вырвать и подушку из-под головы вытащить.
Константину стало совсем весело. Отец всегда с тех пор, как он его помнил, плакался о куске хлеба и о подушке для головы: «Заскрипела скрипка, черт его подери!»
— А чего ты хочешь? Газеты запретить?
— Да хотя бы чтоб не читали. Пусть остаются дураками.
— А тебе что за польза от дураков?
— Польза есть. Ведь богатство наше дураками создано, дураками и держится. Когда все станут грамотеями, садись тогда на мамалыгу.
— Я вижу, ты помирать собрался.
— Константин, не каркай, будь ты неладен, негодный! Слушай меня. — Старик сделал над собой усилие, чтобы сдержаться, и голос его задрожал. — Ты знаешь, что сказал мне этот сопляк Томуца?
— Никулае?
— Никулае. Он сказал: «Баде Висалон, отдай лучше поле в Нирбе кому-нибудь другому, а нам заплати за пахоту и за посев и семена нам верни». — «Что так?» — говорю. «Да так, исполу теперь никто не работает. Закон не дозволяет». — «Что закон, плюнь на него, мы сами договоримся, до сих пор мы и без закона хорошо ладили!» — «Да нет, — твердит мамалыжник, — нельзя на закон плевать, ведь он наш, и мы хотим жить лучше, чем раньше». Тут я разозлился. Спрашиваю: «Где это ты всего набрался, умник ты этакий?» — «А уж это мое дело», — отвечает, а сам так глядит, будто съесть меня хочет. Понял теперь?
— Понял, — пробормотал, смешавшись, Константин.
— Сказал я ему, чтобы отца прислал. Думаю, у старика-то ума нет. А тот тоже: «Не хочу больше исполу». — «А как же?» — спрашиваю. «За четыре пятых», — говорит. «Так, Гаврилэ. Ведь мы свои, не пристало нам теперь ссориться». А он смеется. «А почему и не поссориться, коль на то пошло? Ты кулак, а я бедняк. Свои не свои, а до сих пор я на тебя работал ни за ломаный грош. Больше не желаю». Я его спрашиваю: «Кто вбил тебе в голову эту дурь, божий ты человек?» — «Это не дурь, а справедливость». — «Вот как?» — «Да». — «Это ты так думаешь, Гаврилэ?» — «Не один я. И другие. И Лина, и сыновья мои. Я и с Макавеем и с Кукуетом говорил в клубе. Вот соберемся там вечером и разговариваем. Там мне все и растолковали».
Старик говорил медленно, с трудом. У него даже слезы выступили на глазах от злости.
— Что ж ты сделал?
— Пришлось пообещать ему четыре пятых.
— Чтоб ему ни дна ни покрышки, мамалыжнику!
Оба задумались и долго молчали. Потом Висалон снова заговорил бумажным, шелестящим голосом:
— Остались у меня только Строя и Горя. Да еще Георгишор Ион, только и он в клуб ходит. Теперь понимаешь, что там, на холме, наша погибель?
Константина пробрала дрожь. Теперь он все ясно вспомнил. Услышал тихий, вкрадчивый голос: «Организуют коллективное хозяйство. Выгонят твоего отца. И тебя следом». В глазах старика зажглись злые огоньки.
Читать дальше