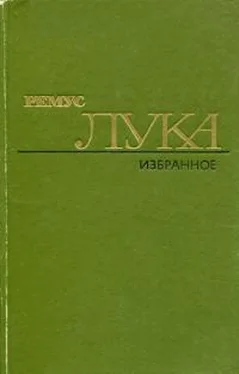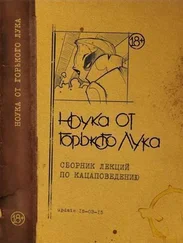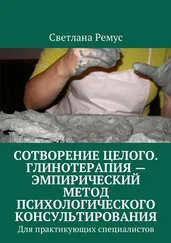Но Викентие терпения было не занимать, и он старался представить все в самом лучшем свете: волы и лошади хорошие, земля добрая и ее много, рабочие руки что надо — благодать, да и только. Урожай делить не нужно — все вези по своим амбарам! А кто занимается ремеслом, ткет, чеботарит, тот и пряжу, и подметки, и кожу будет получать от государства в первую очередь, всяким беднякам да голодранцам уступать больше не придется. Будут у них и волы, и свиньи, будут у них и деньги. Трактора тоже будут на них работать. Со временем обзаведутся разными машинами. Тогда можно будет и свеклу сажать, и табак, и овощи, денег станет еще больше.
Было уже три часа пополудни, но Викентие все еще не добился вразумительного ответа. Он устал говорить и считать, а Герасим повторял, что дело это, мол, неплохое, стоит его обдумать. Может, они и подадут заявление…
3
В понедельник утром Тоадер Поп встал рано, и, когда вышел из дому, ему показалось, что все для него прояснилось. Он остановился посреди двора и внимательно, словно вернулся из дальнего путешествия, осмотрелся, проверяя, не изменилось ли чего, и удивился неизменности мира: все тот же неподвижный лес, из-под снежной его сермяги торчат черные стволы, белый как лунь хутор, сонные дворы. Над занесенными снегом домами занималось холодное утро. Безоблачное небо, сухой, колючий мороз. Словно злобный пес кружил он, впиваясь в щеки, в голые руки, исторгая слезы из глаз.
Тоадер чувствовал, что София следит за ним из-за занавески. Если бы он обернулся, то увидел бы ее озабоченный взгляд, который нежно, словно теплая шаль, обволакивал его. Но он не оборачивался, потому что жена застыдилась бы, отпрянула от окна и залилась краской, как пятнадцатилетняя девочка. Как всегда.
И все-таки все вокруг стало другим. Что-то сместилось, изменилось — ничтожно малое, незаметное. В привычном течении жизни появилось зернышко беспокойства, и оно мешало ему смотреть по-прежнему, думать как раньше. Ощущение тихой радости от красоты мира исчезло, он больше не думал: «Как прекрасно создан мир, летом — цветут луга, в садах зреют покрытые сизым инеем сливы, к которым даже прикоснуться боязно, — а вдруг растает иней? — огород с капустой и стрелками лука, что так и брызжет соком, только сожми в кулаке; душистый воздух над золотыми нивами; зимой — белый снег, огонь, дружелюбно потрескивающий в печи, старые сказки и нежные песни, что поются почти шепотом; хорошо жить на белом свете, пусть так хорошо и живут все люди». Но теперь ему казалось, что во всем таится червоточина. Мир прекрасен, как румяное яблоко, но изнутри его точит червь; даже в его собственном сердце, в мыслях, которые он выстрадал: за много лет и которые отбирал тщательнее, чем зерно от куколя, даже в них затаился червь. Тоадер вышел на улицу и направился в село. Он окликнул Янку Хурдука, который тут же вышел из дому, застегивая на ходу белый тулуп. Обут был Янку в новые сапоги, которые на каждом; шагу поскрипывали, словно они одни тяжело трудились, неся грузное тело хозяина. Тоадер подумал: «С чего это он вдруг вырядился?»
Они пожали друг другу руки, серьезно, как обычно, пожелали здоровья и обменялись внимательными взглядами.
По дороге Хурдук спросил:
— Что это с тобой было вчера вечером, Тоадер?
— Ничего. Горько мне стало.
— С чего это? Из-за разных глупостей?
— Ты что, глупостями называешь поведение Викентие, Мэриана и Ирины?
— Конечно, а что же еще?
Тоадеру трудно было себе представить, что можно быть настолько спокойным; верно, друг его чего-то не понимает, не отдает себе отчета…
— Ты уверен, что мы их выгоним? Уверен, что их родня будет голосовать против них?
— А как же?
— Думаешь, это так просто?
— Я этого не говорил. Но выгнать мы их выгоним. Кто станет терпеть рядом жуликов?
Лицо Хурдука было как всегда неподвижным, только губы и шевелились, а черные, как уголь, глаза смотрели куда-то вдаль.
Тоадер вздохнул и не ответил. Посреди села они расстались. Хурдук отправился к Аугустину Колчериу, бригадиру третьей бригады, чтобы побеседовать и с ним и с его людьми. Тоадер пошел в правление и поднялся в кабинет Ирины. Она была чем-то взволнована, нервничала, писала на листке цифры и стирала их. Здесь же сидели Ион Мэриан, Пэнчушу, Пантелимон Сыву и тоже нервничали.
Пэнчушу мял свою красивую черную шляпу, купленную за сто пятьдесят леев, которую носил и зимой и летом, стараясь показать, что он куда культурнее всех прочих. Сидя возле Ирины, он больше жевал, чем курил, сигарету и все время твердил:
Читать дальше