– Мне сказали, что ты приезжал в университет. Что-то случилось?
– Нет-нет… Я просто так… Ехал мимо. Дай, думаю, заеду. Хотел на лекции твоей посидеть, просветиться… Расширить кругозор, так сказать…
– Странно. Это что-то новенькое. Раньше у тебя таких благородных порывов, Гаевский, никогда не было. Может быть, ты что-то скрываешь от меня?
– Ничего не скрываю.
Протяжные гудки в мобильнике.
В квартире было тихо и мрачно. «Жилище изменников», – подумал Гаевский и снова почувствовал, что находится все в том же состоянии больного человека. И после записки Тормасовой, и после того, что он увидел на флешке, у него будто что-то надломилось в душе. Он чувствовал себя человеком, которому врач поставил неизлечимый диагноз.
Артем Павлович вышел на балкон и там курил безо всякого наслаждения, не чувствуя запаха горящей сигареты, грустно поглядывая на двор, на окрестные дома, на заросший бурьяном и деревьями овраг, на дальний холм, над которым возвышалась колокольня Храма Рождества пресвятой Богородицы – поблескивало сусальное золото куполов.
Время шло к вечеру, солнечный свет с запада между домами пролился на холм так, что большой крест на колокольне вдруг загорелся ослепительно-ярким отблеском. А вскоре послышались колокольные звоны.
Гаевскому показалось, что храм таким образом посылает ему сигнал знамения, зовет его к себе. И он, наскоро переодевшись, – оврагом, оврагом, оврагом, по обросшей высоким бурьяном тропинке потопал к храму. А там долго, до самых сумерек ходил кругами по подворью, возле древних голубых стен, сидел на лавке под липои, дожидаясь окончания вечерней службы. Затем не выдержал, снял кепку у крыльца, неумело перекрестился три раза и вошел в храм.
Откуда-то из густо пахнущей ладаном утробы храма доносился волнистый голос дьяка:
– Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся…
* * *
Вот и тихо стало в храме, и высокий дьячок уже гасит свечи, а другой гремит связкой ключей, и лишь слышно, как где-то за дверью кто-то покашливает старчески.
Тяжело передвигая ноги по квадратным гранитным плитам, из двустворчатой двери выходит священник Агафон и бросает удивленный взгляд на единственного прихожанина, все еще неподвижно стоящего под огромной и темной железной люстрой.
– Вечер добрый, батюшка, – робко говорит Гаевский, и прикладывает руку к груди, – прошу вас поговорить со мной… Беда у меня… Грешен я…
Агафон что-то бурчит себе в бороду и показывает рукой Гаевскому на складные двери, за которыми – задний предел храма. Там Агафон, тяжело кряхтя, опускается в расшатанное самодельное кресло из голого желтоватого дерева.
– Садитесь и рассказывайте, что у вас, – говорит он устало Гаевскому, зажигая толстую, наполовину оплавленную свечу. И Гаевский рассказывает, рассказывает, рассказывает тихим исповедальным тоном. А когда закончил, взял паузу, все так же, с надеждой глядя в глаза священника, и спросил:
– Как мне быть, батюшка, как жить? Как грех свой искупить… И можно ли?.. И как жену загулявшую простить…
– Вы простите – и вам простится, – сухим тоном прерывает его Агафон, – а муж за нераскаянный грех будет отвечать. Прелюбодействующий Царства Небесного не наследует…
Агафон покашливает в руку и хмуро смотрит на Гаевского. Его хрипловатый старческий голос в тишине заднего предела звучит сурово:
– Я давно приметил, что вы как-то странно в наш храм ходите… По воскресным дням сопровождаете сюда супругу свою, поставите пару свечек, постоите две минуты, покреститесь, – и на выход… А жена ваша на службу остается… Вы можете это как-то объяснить?
Гаевский выдавил из себя:
– Мне непросто идти к храму… Я был и пионером, и комсомольцем, и коммунистом… У меня партбилет дома… в винном баре лежит… Вы должны понять меня…
– Понимаю, понимаю, – уже потеплевшим тоном говорил Агафон, – хорошо, что вы искренни в стенах этих… Ну а теперь слушайте. Если предающийся блуду прежде брака осуждается и наказывается то тем более – после брака… Ибо здесь бывает двойное и тройное преступление – это тяжелее всякого греха… Великий учитель Церкви святой Иоанн Златоуст говорит нам, что здесь – грех против собственного тела и нарушение седьмой заповеди «не прелюбодействуй». Здесь – нарушение и восьмой заповеди, гласящей: «не кради», ибо тело твое, – как говорит Златоуст, – есть ее, жены, собственность и собственность драгоценней всякого имущества… Не обижай же ее в важнейшем предмете и не наноси ей смертельной раны. Но, если презираешь ее, то побойся Бога, который не сможет спасти тебя и простить за такие грехи…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Виктор Баранец Офицерский крест [Служба и любовь полковника Генштаба] [litres] обложка книги](/books/393850/viktor-baranec-oficerskij-krest-sluzhba-i-lyubov-p-cover.webp)





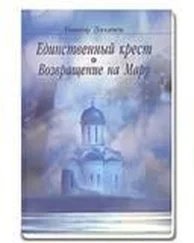
![Лара Темпл - Последняя любовь лорда Стентона [litres]](/books/385251/lara-templ-poslednyaya-lyubov-lorda-stentona-litres-thumb.webp)




