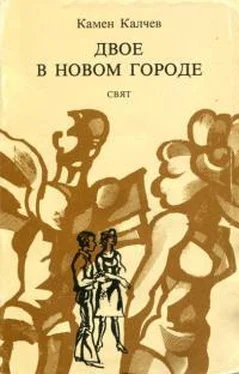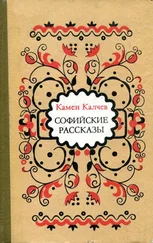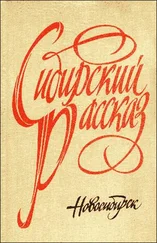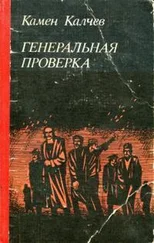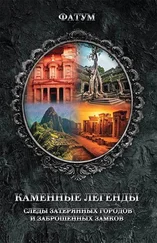И вот я вижу: она выходит из кухни с подносом, на нем три чашки кофе. Снова передо мной эта величественная фигура, которая покоряет и подавляет всякое сопротивление. И снова холодный свинцовый взгляд, он пронизывает, вскрывает мои порочные замыслы. Я притворяюсь, что абсолютно ничего не произошло, что муж ее может быть совершенно спокоен, как был спокоен все предыдущие десять лет. И меня берет досада — я отступаю, хотя и не чувствую за собой никакой вины. А ведь это они должны чувствовать себя виноватыми, должны уступить мне и постель, и любовь свою… Они должны пасть мне в ноги и молить о прощении за то, что похитили надежды моей юности. У меня есть на то право, и справедливый суд, несомненно, подтвердил бы это. Зачем они меня пригласили? Она из тщеславия, а он от усталости?.. Да будут благословенны их дети! Допью сейчас кофе и удалюсь с миром, как порядочный человек.
Слышу, как она говорит:
— Завтра воскресенье, можем лечь и попозже.
Не смею взглянуть на нее, потому что это «можем лечь» звучит для меня приглашением перейти в другую комнату. Ее муж нетерпеливо тянется за чашкой, но Гергана, снисходительно улыбаясь, подает кофе мне:
— Гостю в первую очередь. Ему — преимущество.
Снова ухватываюсь за цепь соблазнительных ассоциаций, и рука моя, протянутая к чашке, дрожит, я боюсь расплескать горячий напиток. Не сомневаюсь, что преимущество за мной. Но для чего оно мне теперь? Иванчо давно отодвинулся на краешек софы, и в этом его сила. Какое значение имеет то, что я получил кофе первым? «Императрице» негде больше спать, как рядом со своим единственным — тем, кто дал ей и детей, и уверенность, и место в обществе, среди нормальных людей. А уж мне суждено оставаться в положении фантазера, возомнившего, будто он имеет право первой ночи.
Слышу, как она говорит:
— Осторожнее, обожжешься!
Это она предостерегает меня, чтобы не вздумал выпить кофе одним глотком — так недолго и горло ошпарить. Мы шумно отхлебываем из своих чашек и молчим. В открытое окно вливается густой аромат созревших хлебов. Мне вдруг представляется, что я на току. Слышу даже шуршание зрелых колосьев, подаваемых на барабан молотилки… Молотилка… Она отняла у меня маму — единственную мою радость. Как же давно это было!.. Приятно вдыхать полной грудью благоухание фракийской долины, которую я исколесил вдоль и поперек по дорогам, тополиным аллеям, под сенью старых раскидистых орехов…
— Что это мы примолкли? — говорит Гергана.
Она обращается не к нему, а ко мне. И я знаю, что сейчас она думает только обо мне. Она наверняка даже забыла о том, другом, кто в своей новенькой полосатой пижаме сидит себе смирно на софе, и нет у него в душе ни малейшей ко мне неприязни, он все такой же добродушный и гостеприимный, как и всегда. Я вдруг чувствую себя перед ним виноватым: вот он, обжигаясь, пьет кофе, чтобы скорее протрезветь, а его-то она не предупредила, что кофе горячий. Не предупредила потому, что не думала о нем, не видела его. А может, ей даже хотелось, чтобы он обжегся и понял свое ничтожество? Разве я могу примириться с этим ее высокомерием? Он передо мной давеча душу распахнул. И ее тоже должен уступить? Нет, я его уважаю и найду в себе силы противостоять его женушке. Сколько лет минуло с того давнего времени?.. Роли переменились, с былой высоты она спустилась на землю, и я вижу, насколько она постарела. Меня уже не привлекает это увядшее лицо и эти губы, давно разучившиеся целовать и шептать слова любви.
Она спрашивает, как дела в бригаде. До меня не сразу доходит, о чем это она. А, о бригаде, которую мы создали месяц назад, и еще, наверное, о том, что взяли обязательство работать лучше и самим стать лучше, перемениться, как меняется все вокруг.
Я говорю в ответ, что ничего особенного не произошло: и лучше мы не стали, и перевоспитать никого не перевоспитали, и по-коммунистически не живем, хотя и обещали это перед всем заводом. Она рассердилась, начала меня поучать — словом, зашуршали страницы скучного доклада. И как я только мог желать ее?
— Сомневаюсь в ваших обещаниях! — резала она.
— А вы всегда сомневаетесь, — заметил я.
— Кто это «вы»?
— Руководители.
Она отодвинула пустую чашку.
— Какие мы руководители?.. Обыкновеннейшие регистраторы, которых вы непрерывно критикуете.
— С этим я не согласен.
Начинается напряженный и в то же время пустой спор. В нем принимаем участие только мы двое. Иванчо сначала смотрит на нас отсутствующим взглядом, потом ставит свою чашку на стол и тихонько скрывается в соседней комнате — пошел досыпать. И тогда я, выведенный из себя ее назидательным тоном, спросил:
Читать дальше