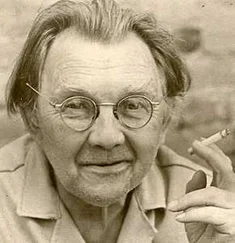Я вытащил из ниши свои старые недописанные картины, выстроил их вдоль стены и с удивлением убедился, что все они закончены. Здесь были «ответы» на вопросы, которые мучили меня когда-то, вакханалия формы и цвета, самые потаенные, необъяснимые, безумные порывы моего подсознания. Мои сновидения, кощунства, умопомрачающие монологи, экзальтированные выкрики из неведомого в неведомое, всяческая чертовщина… Я смотрел на эти холсты так, словно видел их впервые, и ничего не понимал. Да и как можно было понять это цветоблудие? (Если есть «словоблудие», почему не быть «цветоблудию»?) И все же я чувствовал их всем своим существом. Цвет проникал в мою кровь, я обливался потом и трясся как в лихорадке. А потом, взяв пилу и молоток, которыми обычно сколачивал подрамники, принялся их крушить — одну картину за другой. Разжег чугунную печку и побросал останки в огонь. Я курил, в изнеможении наблюдая, как вся эта стихия цвета, весь этот цветной пароксизм человеческого сознания мало-помалу превращается в пепел. «Аутодафе» моих ересей…
В эту ночь я решил уехать куда-нибудь, бежать от самого себя. А вернее, возвратиться к самому себе, найти себя. Там, в родном краю, откуда я родом, где живут свои люди, где прошло детство. Совершу свою Одиссею, глотну из животворного источника своих начал. Там мой жаждущий, беспокойный ум смирится, соприкоснувшись с патриархальной простотой деревенских нравов, свободных и от тщеславия, и от снобизма. Там я перестану задаваться вопросами о смысле и значении искусства, а буду его создавать. Кто-то сказал, что искусство — воплощенная нравственность или что-то в этом роде. Я добавлю: искусство — это труд, а труд — благодать. Хватит догм! Хватит «измов»! Все, что прекрасно, что способствует проявлению человеческого благородства, — современно и вечно…
— Почему ты пьешь прямо из горлышка? — спрашивает Аленка.
— Потому что рюмки нет.
— Сейчас принесу… Пожалуйста… Но только одну. Если будешь пить по две рюмки в день, станешь как Николай Васильевич.
— Ладно, ладно. Только одну — ты же видишь, я работаю.
Этот портрет требует от меня большего, чем можно было ожидать. Надо еще раз увидеть старика, пристальней вглядеться в выражение его лица. Уверен, что и сегодня он сидит на скамейке под грушевым деревом у самой околицы — пасет тощую козу, греется в мягких лучах осеннего солнышка, размышляет. И завтра, и послезавтра будет сидеть, обеими руками опершись на посох и положив на них подбородок. Лицо желтое, морщинистое, почти мертвое, а глаза влажные, живые и мудрые. Глаза стареют позже тела или вообще не стареют — умирают молодыми… Я шел рисовать пейзаж с ярко-желтыми акациями — словно врезанные в фон моря, они тянули макушки к испепеленному небу, — и тут за живой изгородью пестрого кустарника увидал этого старика. Он сидел, опершись подбородком на посох, и смотрел прямо перед собой. Многое было в этом взгляде, потому что свет и мрак, радость и горе яснее отражаются в глазах человека, чем в его словах. О чем же думал этот старик?..
— Я думаю о том, — прервала мои мысли Аленка, — как мне хорошо с тобой, какая я здесь счастливая и как грустно мне будет дома. Отец узнал, что мы любим друг друга, и стал допытываться, что да как. Я улизнула во двор, оттуда на улицу. Бродила как неприкаянная. Видела, как он пошел на работу — хмурый, даже какой-то пришибленный… А потом я побежала к тебе…
Нет, старик не думает о смерти. Небытие его не пугает. Небытие для него — бессрочный отдых после бесконечного тяжелого труда, и ляжет он на смертную постель тихо и спокойно, потому что те, кто жил просто и честно, спокойно встречают смерть. Как только старик поймет, что близится начало вечного покоя, он призовет своих родных, скажет, что он уже «путник», и велит, чтоб его переодели во все чистое, приготовленное им специально в «дорогу», ибо срамно пускаться в дальний путь в нечистой и ветхой одежде. Позовут священника — здоровенного попа в лоснящейся камилавке и рваной епитрахили, — тот примется размахивать кадилом и молить бога о спасении души раба божия Ивана. А старик вдохнет запах ладана усталыми своими легкими и, почуяв, что пахнет не только ладаном, но и вином, подумает: «Чтоб ему пусто было, этому козлу, опять нализался!» Глаза же его — живые, молодые — будут смотреть на столпившихся вокруг — живых и молодых, тех, кого он создавал из плоти своей и крови. Не станет он ни жалеть, ни завидовать, ибо знает, что все на этом свете имеет свой срок — одним время умирать, другим рождаться, — повернется лицом к побеленной известкой стене и долго будет смотреть на белое, пока усталые веки не сомкнутся…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу