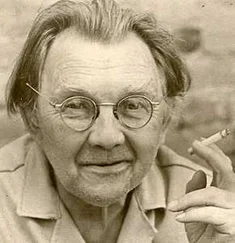— Не анархизм я проповедую, — продолжал Маринский, хлебнув из бутылки. — Отсутствие какой бы то ни было формы, свобода — вот конечная цель искусства. А в жизни форма — социальная условность, фальшивая одежда, маскхалат… Мир, война, хлеб насущный — всё преходяще, преходящее же не истинно. Освободите человека от его социальных одежд, освободите от того, что ему не присуще и не принадлежит, и вы увидите личность в ее истинном виде. Я хотел бы содрать с человека эти одежки… и не только их, но и саму кожу, чтоб увидеть, что он такое на самом деле…
— Для этого надо было закончить медицинский факультет, да к тому же с отличием, — перебила его соседка.
Маринский взглянул на нее презрительно.
— Человек, — продолжал он, не удостаивая ее ответом, — не что иное, как мешок, полный страстей: здесь и жажда власти, и стремление к личной свободе и наслаждениям… Где тут поэзия, где гуманизм, которыми вот уже тысячелетия засоряют нам мозги всевозможные мыслители и политики? Где любовь? Я иду к женщине, чтобы насладиться ею. Любовь — старомодный атрибут души, выдумка, с помощью которой барды когда-то развлекали скучающих дам. Влюбляются только нищие духом, лишенные каких-либо иных способностей.
Раденов чокнулся бутылкой о бутылку Ани — девушка сидела, обнявшись с Маринским и глядя на него, точно загипнотизированная, — и тоном судьи спросил:
— Ани, есть у тебя какие-нибудь возражения и дополнения по данному вопросу?
— Никогда не страдала сентиментальностью, — ответила она.
В дальнем конце мастерской кто-то рассмеялся. Обернувшись, Маринский пристально вгляделся в темный угол, помолчал и снова медленно поднял указательный палец, предлагая присутствующим обратить внимание на портрет, висевший у него над головой.
— Взгляните. Один наш собрат, лично знакомый с моделью, ужаснулся, увидев это мое произведение. Как можно, сказал он, глядя на прекрасную девушку, сотворить такое чудище? Девушка и вправду была красива. Но, узнав ее — скажем, узнав достаточно близко, — я убедился, что под красивой внешностью часто скрывается деформированная личность…
«Собратом» был я, Маринский высокомерно махнул рукой в мою сторону. Все подняли головы и уставились на меня словно на какого-нибудь динозавра. Я смутился, однако принялся отстаивать свое мнение. Конечно, сам я тогда ни в чем не был уверен и потому говорил крайне неубедительно. Мне бросали короткие насмешливые реплики, разжигая во мне желание поспорить, дерзко и презрительно подначивали. Выпитое давало себя знать, я путался, противоречил сам себе, злился, чувствуя себя глупым, старомодным и занудливым, и в душе завидовал Маринскому и Раденову — у них по крайней мере ясность взглядов, твердые позиции, цели, а у меня? На каком пути стою я, куда он меня приведет?
Музыка, живопись, литература — три вида искусства, три заколдованных круга. Я кручусь в них, то перескакивая из одного в другой, то пребывая одновременно в трех. А надо бы задержаться в среднем — ведь я художник. Но как трудно быть только живописцем. А может, великие мастера потому и великие, что не соблюдают четких границ своей творческой территории? Заметьте, гении кисти, как правило, и гениальные мыслители…
— Внимание! — комментировал Маринский. — Свет прожектора проникает в темноту и нащупывает интересы… Внимание!
Нет ничего более несовершенного, чем человек. Старая истина. Но я спрашиваю сейчас не о том. Меня интересует, кто мы — созерцатели или деятели? Станем ли мы вдохновляться муками Сизифа или поможем ему втащить камень на вершину?
— А сейчас луч прожектора обнажает перед нами историческую ложь — гуманизм! — изрек Маринский и мефистофельски рассмеялся.
Из углов мастерской, окутанных синевато-зеленым сумраком, эхом отозвался многоголосый смех. О, как ненавижу я всех этих людей, и в первую очередь Маринского — за то, что он превосходит меня даже в глупых своих парадоксах. Надо было бы не связываться, великодушно махнуть рукой, удалиться. Но так хотелось сразить его остроумными возражениями и доводами, которые мне не давались.
— Да, — продолжал я, — каким бы старомодным ни казался тебе гуманизм, добро — всегда ново и потому вечно, а зло — старо и потому отживает. Если согласиться, что жизнь бессмысленна, то получается, что мы призваны воспевать бессмысленность. Нет, у природы, безусловно, есть свой гениальный закон жизни, и я не допускаю мысли, что он бессмыслен.
— Верно! — согласился Колю Витинов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу