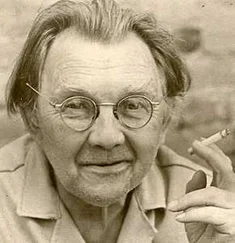Но вот в протяжную грустную мелодию, нежно трепещущую, как марево над степью, своими серебряными переливами, проникали потаенные звуки волнующей, еще не осознанной страсти, чтобы потом обернуться одним из тех восточных танцев, с огненным чеканным ритмом, который сначала смутно будоражит, а потом до безумия разжигает кровь, наполняя сердце диким восторгом и необузданными порывами. Муса, младшая и последняя жена маэстро, уже извивалась в сладострастном танце живота, и все цыгане, от мала до велика, плясали вокруг, крича и отбивая такт на бубнах, кастаньетах, пустых кастрюлях, подносах, деревянных ложках и полых сушеных тыквах, пока не приходили в исступление. Мы же, остановившись только на минутку поглазеть, простаивали иногда часами, а потом, в постели, пока не смыкались глаза, в нас все еще звучали ритмы Рамадановых мелодий.
Зимой, весной и осенью, во время праздников, наш маэстро не оставался без ангажемента. Муса, если только она не была в очередной раз беременна, повсюду его сопровождала и своими танцами доводила публику до экстаза. В награду она уносила полные котомки снеди, а часто и старую одежонку для себя и ребятишек. В такие благословенные времена маэстро упивался собственным величием; он толстел, лицо его лоснилось от самодовольства, глаза возбужденно горели. Польщенный пьяной щедростью подгулявших хозяев, он с аристократическим презрением смотрел на житейские тяготы и говорил цыганам: «Меня кларнет кормил и будет кормить, пока не помру». Рамадан говорил это, наивно веря, что богачи не могут жить без искусства. Ему и в голову не приходило, что они нанимают его, чтобы полнее насладиться своим благополучием, что в трезвом состоянии они презирают его — грязного паршивого цыгана, — впрочем, как всякие деловые люди презирают разных там писателей, художников и музыкантов, презирают за то, что они живут беспечно, с душой нараспашку и не создают, по их мнению, ничего ценного.
Ослепленный славой и наивной верой, что принят обществом на равных, маэстро теперь удивлялся, как же это общество успело его так быстро забыть, почему никто не догадывается принести ему горсть зерна или хотя бы ломоть хлеба. Он, правда, не помнил такого случая, чтобы какой-нибудь благодетель по собственному желанию дал что-нибудь цыгану, и все же тешил себя надеждой, что для него, Рамадана, это сделают. Должны сделать! И чем большее значение он себе приписывал, тем горше становилось его разочарование.
Может быть, спасение было в том, чтобы пойти побираться, но в голодное время цыгане-мужчины не пытаются этого делать, по собственному опыту зная, что все равно им ничего не дадут, а только прогонят с порога. Приходилось пробавляться чем бог послал. В такое время цыгане резали скотину — коз, ослов, лошадей — и всю мелкую живность, бродили по полям и пустым огородам, выкапывали остатки картофеля и кореньев, уходили в далекие села и как-то умудрялись не помереть с голоду.
А наш маэстро все еще надеялся на помощь своих бесчисленных почитателей. От гриппа, недоедания и прежде всего от уязвленного самолюбия он сильно похудел, глаза его стали огромными, печальными, а горящий взгляд проницательным, что придавало его облику известную утонченность — впрочем, присущую творческим натурам. И эта утонченность красноречивейшим образом подчеркивала, что он достоин лучшей участи. Его молодая, красивая и последняя жена, Муса, как любая жена в дни испытаний материального характера, видела в муже не всеми признанного царя кларнета, а стареющего, капризного и ленивого мужчину с замашками чуть ли не богача, мужчину, неспособного прокормить не только семью, но и самого себя. Предвидя, как все цыганки, голодное время, она припрятала немного муки — крестьяне предпочитали расплачиваться деньгами или старой одеждой, — набрала за лето паданцев и пшеничных колосьев, насушила слив и диких груш, сварила арбузное и виноградное повидло; но все это давно уже было съедено. Теперь ей удавалось только раз в день кое-как покормить семью.
Весна стояла сухая, душная, безветренная. Земля потрескалась. В тени плетней не росло ни щавеля, ни крапивы — не успев подрасти, они были вырваны с корнем. Природа, как всегда глухая и слепая к человеческим невзгодам, не посылала ни капли дождя, зато с неутомимым усердием плодила миллионы никому не нужных насекомых.
Маэстро больше всего страдал именно от их жестокости. Эти отвратительные твари: мухи, сороконожки, муравьи, пауки и другие букашки — были заклятыми врагами нашего, впавшего в уныние музыканта; они заползали в халупу, не давали покоя ни днем ни ночью. Муса и ребятишки, ложившиеся на пол покотом — от стены до стены, — умаявшись за день, тотчас засыпали, а он до утра вел рукопашные бои с кровожадными полчищами блох и их союзников. Но и тогда он не переставал мечтать, что наступит время и он снова заиграет на кларнете, снова станет душой праздников, снова люди не смогут без него обходиться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу